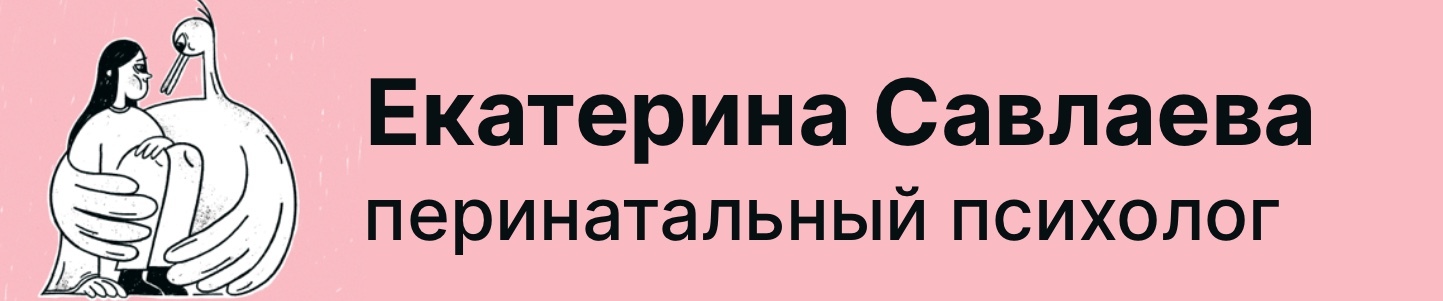прерывание беременности по медицинским показаниям
Юлия Чернова:
"Принять землетрясение: история одной потери"
"Принять землетрясение: история одной потери"
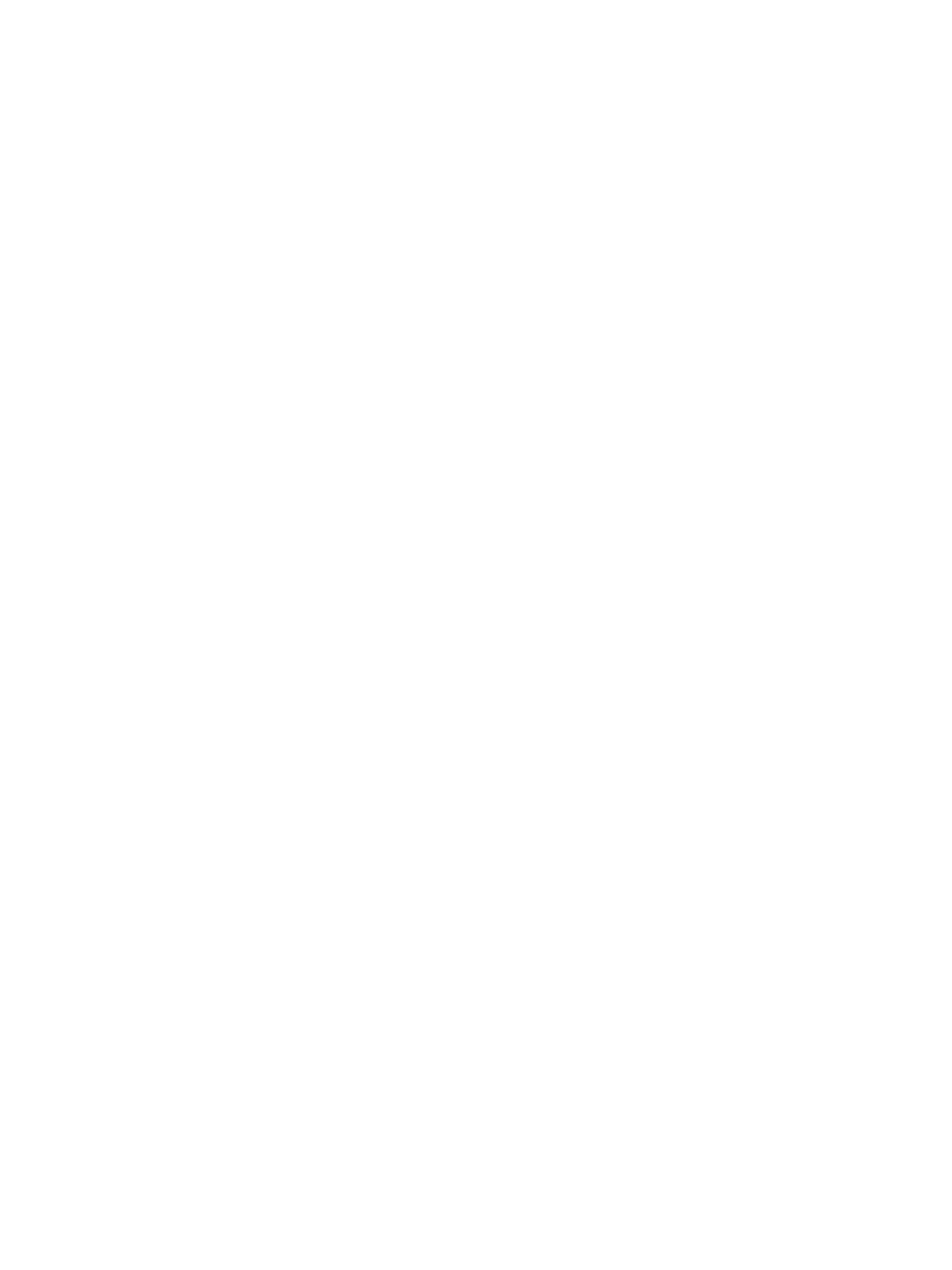
Благодарность
Я испытываю огромную благодарность каждому, кто поддержал меня в самый трудный период моей жизни. Всем, кто находил слова утешения, - и тем, кто слов так и не нашел, но чьи молчаливые объятия были самыми крепкими. Моим самым понимающим друзьям, кто нашел как мне помочь в горевании, пока я сама еще только искала свой путь. Людям, которые помогли моему духовному и физическому восстановлению через дыхательные и телесные практики. Моему психологу, которая создала доверительную атмосферу и прошла со мной весь этот опыт. Моему мужу, который всегда был готов обнимать и слушать. И, конечно же, к себе - за силу открыто рассказать свою историю, за то, что слушала себя и нашла силы принять эту трагедию с самого начала.
Предисловие
«Я не прячу трагедию под ковер, не делаю вид, что ее не было»
Зачем я продолжаю про все это говорить и писать?
Я часто слышу этот вопрос — и вижу сочувствующие взгляды, которые будто говорят: «не отпустила ещё». Иногда я получаю слова поддержки вроде: «всё будет хорошо, будут ещё дети, не убивайся ты так, вон у моих знакомых тоже была похожая ситуация, а теперь трое прекрасных малышей. Нужно просто сосредоточиться на будущем».
Прошло два месяца со дня прерывания беременности, когда я впервые села писать свою историю с мыслью: «Это все было не зря». Я не прячу трагедию под ковёр, не делаю вид, что её не было. Я позволяю ей занять своё место в моей жизни, чтобы мы вместе шли дальше.
В этом личном очерке я не даю рекомендаций и не советую, как лучше прожить или принять перинатальную потерю. Я просто делюсь своей историей: рассказываю, как я это приняла, что чувствовала, о чём думала, какая поддержка мне была нужна и что помогало на пути восстановления. Возможно, это кому-то поможет.
Жизнь моего первого сына оказалась недолгой — всего пять месяцев. Но даже этого времени хватило, чтобы он успел чему-то меня научить и навсегда изменить мою жизнь. Теперь это моя ответственность — помочь его голосу прозвучать в мире, потому что даже короткая жизнь имеет смысл и может оставить след.
Я часто слышу этот вопрос — и вижу сочувствующие взгляды, которые будто говорят: «не отпустила ещё». Иногда я получаю слова поддержки вроде: «всё будет хорошо, будут ещё дети, не убивайся ты так, вон у моих знакомых тоже была похожая ситуация, а теперь трое прекрасных малышей. Нужно просто сосредоточиться на будущем».
Прошло два месяца со дня прерывания беременности, когда я впервые села писать свою историю с мыслью: «Это все было не зря». Я не прячу трагедию под ковёр, не делаю вид, что её не было. Я позволяю ей занять своё место в моей жизни, чтобы мы вместе шли дальше.
В этом личном очерке я не даю рекомендаций и не советую, как лучше прожить или принять перинатальную потерю. Я просто делюсь своей историей: рассказываю, как я это приняла, что чувствовала, о чём думала, какая поддержка мне была нужна и что помогало на пути восстановления. Возможно, это кому-то поможет.
Жизнь моего первого сына оказалась недолгой — всего пять месяцев. Но даже этого времени хватило, чтобы он успел чему-то меня научить и навсегда изменить мою жизнь. Теперь это моя ответственность — помочь его голосу прозвучать в мире, потому что даже короткая жизнь имеет смысл и может оставить след.
Глава 1
«Может, вы слышали про спина бифида…»
Понедельник.
Утром я спрашиваю Лёшу:
— Слушай, у меня сегодня УЗИ, будем смотреть малыша изнутри. Хочешь пойти со мной?
— А во сколько?
— В 14:00.
— Хм… я ведь уже видел его изнутри, на 12-й неделе.
— Это правда. Но таких морфологических УЗИ за всю беременность не так много, а это что-то особенное.
— Ну ладно, пошли. Возьму с собой ноутбук, поработаю, пока ждём.
Пока мы собираемся, я думаю о том, что уже в пятницу мы вылетаем на свадьбу подруги в Трансильванию, а потом — наконец-то в Будапешт. Я не была там уже шесть лет. Именно там мы с Лёшей познакомились, там живут многие наши друзья, там прошли мои самые беззаботные, веселые и свободные годы взросления. Подарки друзьям уже куплены, ночлег оговорен. Уже предвкушаю, как я снова буду ходить на Lehel Vásárcsarnok, покупать самые вкусные кечкеметские персики и вспоминать при оплате все эти венгерские цифры.
14:00
Мы сидим у кабинета, ждём приёма. Рядом ещё одна пара. Мы хихикаем, Лёша пытается работать. В 14:30 приходит врач-узист, сначала принимает их. Через полчаса дверь открывается, и звучит заветное:
— Мадам Шернова.
Стандартная процедура: ложусь на кушетку, оголяю живот.
— Сейчас может быть прохладно, — говорит врач и выливает на кожу большое количество геля.
На чёрном экране появляется серебристый человечек. Картинки сменяют друг друга: кое-где можно различить части тела, а кое-где — совсем ничего не понятно. Врач молчит. Я уже знаю этот тип: есть те, кто комментируют каждую деталь, орган за органом, а есть те, кто всё смотрят молча, а в конце выдают резюме. Наверное, эта врач из вторых. Несколько раз она надавливала датчиком сильнее, чем обычно — было слегка больно, но я решила: значит, так надо.
Наконец прибор убирают, и врач начинает говорить:
— Малыш лежит не в очень удобной позе, поэтому я не могу быть на сто процентов уверена. Но я вижу патологию, связанную с нервной трубкой. Может, вы слышали про спина бифида? Все остальные органы в порядке. Сейчас важно получить второе мнение, поэтому я вас запишу в другой госпиталь. Когда вам удобно?
Шум в ушах, сердце проваливается вниз — то самое редкое, но знакомое ощущение, когда случается что-то серьезное. Спина бифида… Да, встречалось в разных книжках о беременности. Но что именно это значит — не помню.
— Мы в отпуск в пятницу уезжаем…
— Хорошо, я посмотрю, есть ли у них свободные места до пятницы. Подождите здесь.
Встаю и поворачиваюсь к Леше. Он смотрит на меня большими растерянными глазами:
— Мне что-то нехорошо. Дышать нечем. - Он садится на кушетку, где только что лежала я.
Я открываю окно в кабинете и понимаю, что при +32 градусах на улице и отсутствии ветра толку от открытого окна мало. Достаю из рюкзака бутылочку воды, протягиваю ему.
— Да ты не переживай, Леш…Она ошиблась. Все там хорошо, я уверена. Она ведь сама сказала, что поза неудачная и нужно еще уточнить. Давай не будем паниковать раньше времени.
Стук в дверь. Заходит мой гинеколог. Обычно не очень эмпатичный сегодня он делает брови домиком и спрашивает: «How are you?» Нехороший знак, подумала я. Но, всё ещё слыша эхом свои последние слова, я говорю ему:
— Fine. Врач же сказала, что из-за позы она не уверена, есть ли там патология, и нужно мнение второго специалиста.
— Нет, там точно видна патология, просто непонятно, насколько она серьёзная. Врач-узист сказала, что вы планируете поехать в отпуск в конце недели?
— Да, в пятницу.
— В такой ситуации лучше не затягивать со временем.
— Почему? — не знаю как, но у меня вырывается. — Чтобы успеть сделать аборт до определённого срока?
— Нет, тут сроков нет. Просто столкнёмся с бóльшими трудностями. Плюс врачи сейчас начнут уходить в отпуск. Лучше не затягивать. Получите второе мнение, я вам позвоню, и мы обсудим дальнейшие шаги.
Мы с Лёшей выходим из кабинета в полном мандраже и молча идём до парковки. Я пытаюсь убедить себя, что не стоит убиваться раньше времени, и говорю ему:
— Вот завтра сходим на повторное УЗИ, и если патологию подтвердят, тогда уже будем переживать. А сейчас давай не накручивать. К тому же у меня через два часа экзамен по французскому, я не смогу его сдать, если сейчас дам волю эмоциям.
Конечно, при первой же возможности я пишу в Google «спина бифида», и мне выдаются все эти душераздирающие картинки. По описанию понимаю, что всё очень серьёзно. На экран смартфона капают слёзы.
18:30
Урок французского. Выдают лист бумаги и задание: представьте, что вы журналист и вам нужно написать колонку на любую тему для модного журнала. Мой мозг из-за стресса совсем не хочет ничего придумывать. В голове и ушах только и звенит: «Может, вы слышали про спина бифида…»
Сделав невероятное усилие, я наконец-то придумываю сюжетную линию и пишу о том, что знаю, — о разнице в повседневном стиле в Восточной и Западной Европе. Сдаю работу, сажусь на велосипед и чувствую, что слёзы льются — их невозможно сдержать. Открывая входную дверь домой, я заранее набираю в лёгкие воздуха, чтобы, переступив порог и закрыв за собой дверь, сразу разрыдаться в голос.
Это был первый день.
Утром я спрашиваю Лёшу:
— Слушай, у меня сегодня УЗИ, будем смотреть малыша изнутри. Хочешь пойти со мной?
— А во сколько?
— В 14:00.
— Хм… я ведь уже видел его изнутри, на 12-й неделе.
— Это правда. Но таких морфологических УЗИ за всю беременность не так много, а это что-то особенное.
— Ну ладно, пошли. Возьму с собой ноутбук, поработаю, пока ждём.
Пока мы собираемся, я думаю о том, что уже в пятницу мы вылетаем на свадьбу подруги в Трансильванию, а потом — наконец-то в Будапешт. Я не была там уже шесть лет. Именно там мы с Лёшей познакомились, там живут многие наши друзья, там прошли мои самые беззаботные, веселые и свободные годы взросления. Подарки друзьям уже куплены, ночлег оговорен. Уже предвкушаю, как я снова буду ходить на Lehel Vásárcsarnok, покупать самые вкусные кечкеметские персики и вспоминать при оплате все эти венгерские цифры.
14:00
Мы сидим у кабинета, ждём приёма. Рядом ещё одна пара. Мы хихикаем, Лёша пытается работать. В 14:30 приходит врач-узист, сначала принимает их. Через полчаса дверь открывается, и звучит заветное:
— Мадам Шернова.
Стандартная процедура: ложусь на кушетку, оголяю живот.
— Сейчас может быть прохладно, — говорит врач и выливает на кожу большое количество геля.
На чёрном экране появляется серебристый человечек. Картинки сменяют друг друга: кое-где можно различить части тела, а кое-где — совсем ничего не понятно. Врач молчит. Я уже знаю этот тип: есть те, кто комментируют каждую деталь, орган за органом, а есть те, кто всё смотрят молча, а в конце выдают резюме. Наверное, эта врач из вторых. Несколько раз она надавливала датчиком сильнее, чем обычно — было слегка больно, но я решила: значит, так надо.
Наконец прибор убирают, и врач начинает говорить:
— Малыш лежит не в очень удобной позе, поэтому я не могу быть на сто процентов уверена. Но я вижу патологию, связанную с нервной трубкой. Может, вы слышали про спина бифида? Все остальные органы в порядке. Сейчас важно получить второе мнение, поэтому я вас запишу в другой госпиталь. Когда вам удобно?
Шум в ушах, сердце проваливается вниз — то самое редкое, но знакомое ощущение, когда случается что-то серьезное. Спина бифида… Да, встречалось в разных книжках о беременности. Но что именно это значит — не помню.
— Мы в отпуск в пятницу уезжаем…
— Хорошо, я посмотрю, есть ли у них свободные места до пятницы. Подождите здесь.
Встаю и поворачиваюсь к Леше. Он смотрит на меня большими растерянными глазами:
— Мне что-то нехорошо. Дышать нечем. - Он садится на кушетку, где только что лежала я.
Я открываю окно в кабинете и понимаю, что при +32 градусах на улице и отсутствии ветра толку от открытого окна мало. Достаю из рюкзака бутылочку воды, протягиваю ему.
— Да ты не переживай, Леш…Она ошиблась. Все там хорошо, я уверена. Она ведь сама сказала, что поза неудачная и нужно еще уточнить. Давай не будем паниковать раньше времени.
Стук в дверь. Заходит мой гинеколог. Обычно не очень эмпатичный сегодня он делает брови домиком и спрашивает: «How are you?» Нехороший знак, подумала я. Но, всё ещё слыша эхом свои последние слова, я говорю ему:
— Fine. Врач же сказала, что из-за позы она не уверена, есть ли там патология, и нужно мнение второго специалиста.
— Нет, там точно видна патология, просто непонятно, насколько она серьёзная. Врач-узист сказала, что вы планируете поехать в отпуск в конце недели?
— Да, в пятницу.
— В такой ситуации лучше не затягивать со временем.
— Почему? — не знаю как, но у меня вырывается. — Чтобы успеть сделать аборт до определённого срока?
— Нет, тут сроков нет. Просто столкнёмся с бóльшими трудностями. Плюс врачи сейчас начнут уходить в отпуск. Лучше не затягивать. Получите второе мнение, я вам позвоню, и мы обсудим дальнейшие шаги.
Мы с Лёшей выходим из кабинета в полном мандраже и молча идём до парковки. Я пытаюсь убедить себя, что не стоит убиваться раньше времени, и говорю ему:
— Вот завтра сходим на повторное УЗИ, и если патологию подтвердят, тогда уже будем переживать. А сейчас давай не накручивать. К тому же у меня через два часа экзамен по французскому, я не смогу его сдать, если сейчас дам волю эмоциям.
Конечно, при первой же возможности я пишу в Google «спина бифида», и мне выдаются все эти душераздирающие картинки. По описанию понимаю, что всё очень серьёзно. На экран смартфона капают слёзы.
18:30
Урок французского. Выдают лист бумаги и задание: представьте, что вы журналист и вам нужно написать колонку на любую тему для модного журнала. Мой мозг из-за стресса совсем не хочет ничего придумывать. В голове и ушах только и звенит: «Может, вы слышали про спина бифида…»
Сделав невероятное усилие, я наконец-то придумываю сюжетную линию и пишу о том, что знаю, — о разнице в повседневном стиле в Восточной и Западной Европе. Сдаю работу, сажусь на велосипед и чувствую, что слёзы льются — их невозможно сдержать. Открывая входную дверь домой, я заранее набираю в лёгкие воздуха, чтобы, переступив порог и закрыв за собой дверь, сразу разрыдаться в голос.
Это был первый день.
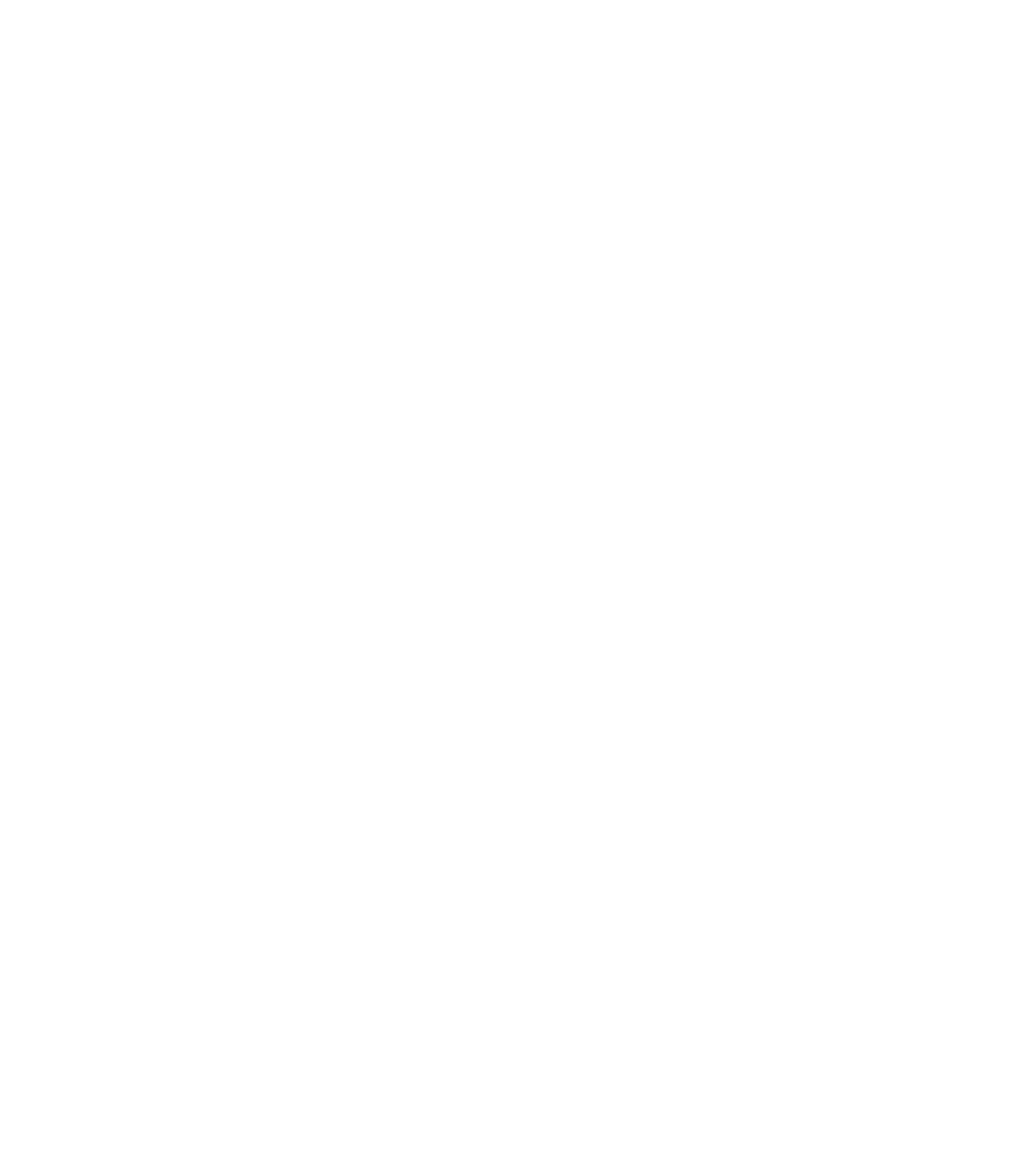
Глава 2
«Be strong»
Вторник.
Первое утро, когда проснувшись, я надеялась, что это был сон. Но тут же, почувствовав опухшие от слез глаза, вернулась в реальность. «Не стоит переживать раньше времени, — думала я. — Сегодня всё узнаем».
Накануне поздно вечером к нам заехал переночевать друг. Сейчас нужно выйти на завтрак, натянуть улыбку и притвориться, что всё в порядке, чтобы ничего не объяснять. Сил на это совсем нет.
Перед самым выходом в больницу появляется агент по недвижимости — крупная, шумная женщина. С порога она кричит:
— Как дела? Всё хорошо с малышом?
Я молча качаю головой и выхожу за дверь. Общаться с кем-либо в этот момент невыносимо.
Я стараюсь держать себя в руках, но напор мыслей и ощущений в теле настолько сильный, что у меня не получается пропускать их “как облачка на небе”. А ведь мне казалось, что за пять лет практики медитации я научилась относительно быстро осознавать, что поток мыслей меня затянул и отпускать их. «Медитировать в тишине, сидя в одиночестве где-нибудь на вершине горы, — просто. А попробуй сделать то же самое посреди шумного базара», — сказал мне когда-то инструктор йоги. Вот он — мой шумный базар. И мне невероятно трудно не поддаться напору всех этих мыслей.
Прошли сутки. Мы снова сидим у кабинета и ждём врача. Только теперь это другая больница, другой кабинет, другой специалист — и другой повод для консультации. Ожидание тянется так же долго. Мы успеваем посмеяться, пожаловаться, уткнуться в телефоны. Лёша даже немного поработал. Через полтора часа звучит:
— Мадам Шернова.
Мы входим в тёмную комнату без окон, освещённую лишь тусклой лампой. Стандартная процедура: ложусь на кушетку, оголяю живот.
— Сейчас может быть прохладно, — говорит врач и выливает на кожу большое количество геля.
— А что вам сказали в вашей больнице? — спрашивает она.
— Сказали, что есть подозрения на спина бифида и нужно проверить.
— Понятно. Я сделаю осмотр, а потом подойдёт врач. Я — её ассистентка.
На экране появляется серебристый человечек. Я понимаю, что, возможно, это последний раз, когда вижу его на УЗИ, и стараюсь запомнить каждую деталь. Девушка молча водит датчиком по животу. Мы с Лёшей пытаемся, опираясь на наши скудные знания, понять: видим ли мы спина бифида? Девушка убирает прибор, просит подождать и выходит за врачом.
— Ну что думаешь? — поворачиваюсь к Лёше. — Она что-то нашла? Ты сам что-нибудь видел?
— Уф… Совсем ничего не понятно. Но будто было какое-то тёмное пятно на копчике. Не уверен.
Дверь приоткрывается, девушка заглядывает:
— А вы НИПТ делали?
— Да, конечно.
— И там ничего не нашли?
— Думаю, если бы нашли, я бы знала. Но мне ничего не говорили.
Дверь закрывается. Я смотрю на Лёшу: «Ну всё. Точно что-то нашли».
Заходит врач. Представляется, берёт прибор и начинает осмотр. Они переговариваются вполголоса, иногда прикрывая рот рукой — как это делают политики по телевизору, чтобы никто не смог прочитать по губам их слова. Потом врач убирает датчик и протягивает мне салфетку, чтобы вытереть гель на животе.
— А что вам сказали в вашей больнице?
— Подозрения на спина бифида. Но малыш лежал неудобно, и нужно было подтверждение.
— К сожалению, мы вынуждены подтвердить диагноз. У малыша тяжёлая форма спина бифида и развивающаяся гидроцефалия.
Рука с салфеткой вместо живота сразу тянется промокнуть заливающееся слезами лицо. Слёзы льются, и я даже не пытаюсь их остановить. Врач и ассистентка понимают ситуацию и молча подают новые салфетки, как только предыдущие превращаются в мокрый комочек.
Я делаю глубокий вдох, медленно выдыхаю и смотрю на врача. Она продолжает:
— Мы можем организовать для вас встречу с неврологом, чтобы вы лучше поняли, как жить с такой патологией. Это нелегко, но возможно. Сейчас делают внутриутробные операции…
— Нет, — с комом в горле произношу я. — Мы не готовы к такому родительству и к таким переменам. В нашем мире так много возможностей… Ограничивать малыша с самого рождения — несправедливо.
— Хорошо. Тогда вам нужно обсудить прерывание в ближайшее время. Ваш гинеколог свяжется с вами. Если хотите, это можно сделать и в нашей больнице — выбор за вами. Хотите, я оставлю свои контакты, если будут вопросы?
— Да, пожалуйста.
Врачи выходят. И тут уже Лёша даёт волю своим чувствам. Я обнимаю его и протягиваю сухую салфетку взамен на мокрый комочек.
На выходе врач вручает лист с контактами, пожимает руку и с голосом, полным поддержки, говорит:
— Be strong.
Это был второй день.
Первое утро, когда проснувшись, я надеялась, что это был сон. Но тут же, почувствовав опухшие от слез глаза, вернулась в реальность. «Не стоит переживать раньше времени, — думала я. — Сегодня всё узнаем».
Накануне поздно вечером к нам заехал переночевать друг. Сейчас нужно выйти на завтрак, натянуть улыбку и притвориться, что всё в порядке, чтобы ничего не объяснять. Сил на это совсем нет.
Перед самым выходом в больницу появляется агент по недвижимости — крупная, шумная женщина. С порога она кричит:
— Как дела? Всё хорошо с малышом?
Я молча качаю головой и выхожу за дверь. Общаться с кем-либо в этот момент невыносимо.
Я стараюсь держать себя в руках, но напор мыслей и ощущений в теле настолько сильный, что у меня не получается пропускать их “как облачка на небе”. А ведь мне казалось, что за пять лет практики медитации я научилась относительно быстро осознавать, что поток мыслей меня затянул и отпускать их. «Медитировать в тишине, сидя в одиночестве где-нибудь на вершине горы, — просто. А попробуй сделать то же самое посреди шумного базара», — сказал мне когда-то инструктор йоги. Вот он — мой шумный базар. И мне невероятно трудно не поддаться напору всех этих мыслей.
Прошли сутки. Мы снова сидим у кабинета и ждём врача. Только теперь это другая больница, другой кабинет, другой специалист — и другой повод для консультации. Ожидание тянется так же долго. Мы успеваем посмеяться, пожаловаться, уткнуться в телефоны. Лёша даже немного поработал. Через полтора часа звучит:
— Мадам Шернова.
Мы входим в тёмную комнату без окон, освещённую лишь тусклой лампой. Стандартная процедура: ложусь на кушетку, оголяю живот.
— Сейчас может быть прохладно, — говорит врач и выливает на кожу большое количество геля.
— А что вам сказали в вашей больнице? — спрашивает она.
— Сказали, что есть подозрения на спина бифида и нужно проверить.
— Понятно. Я сделаю осмотр, а потом подойдёт врач. Я — её ассистентка.
На экране появляется серебристый человечек. Я понимаю, что, возможно, это последний раз, когда вижу его на УЗИ, и стараюсь запомнить каждую деталь. Девушка молча водит датчиком по животу. Мы с Лёшей пытаемся, опираясь на наши скудные знания, понять: видим ли мы спина бифида? Девушка убирает прибор, просит подождать и выходит за врачом.
— Ну что думаешь? — поворачиваюсь к Лёше. — Она что-то нашла? Ты сам что-нибудь видел?
— Уф… Совсем ничего не понятно. Но будто было какое-то тёмное пятно на копчике. Не уверен.
Дверь приоткрывается, девушка заглядывает:
— А вы НИПТ делали?
— Да, конечно.
— И там ничего не нашли?
— Думаю, если бы нашли, я бы знала. Но мне ничего не говорили.
Дверь закрывается. Я смотрю на Лёшу: «Ну всё. Точно что-то нашли».
Заходит врач. Представляется, берёт прибор и начинает осмотр. Они переговариваются вполголоса, иногда прикрывая рот рукой — как это делают политики по телевизору, чтобы никто не смог прочитать по губам их слова. Потом врач убирает датчик и протягивает мне салфетку, чтобы вытереть гель на животе.
— А что вам сказали в вашей больнице?
— Подозрения на спина бифида. Но малыш лежал неудобно, и нужно было подтверждение.
— К сожалению, мы вынуждены подтвердить диагноз. У малыша тяжёлая форма спина бифида и развивающаяся гидроцефалия.
Рука с салфеткой вместо живота сразу тянется промокнуть заливающееся слезами лицо. Слёзы льются, и я даже не пытаюсь их остановить. Врач и ассистентка понимают ситуацию и молча подают новые салфетки, как только предыдущие превращаются в мокрый комочек.
Я делаю глубокий вдох, медленно выдыхаю и смотрю на врача. Она продолжает:
— Мы можем организовать для вас встречу с неврологом, чтобы вы лучше поняли, как жить с такой патологией. Это нелегко, но возможно. Сейчас делают внутриутробные операции…
— Нет, — с комом в горле произношу я. — Мы не готовы к такому родительству и к таким переменам. В нашем мире так много возможностей… Ограничивать малыша с самого рождения — несправедливо.
— Хорошо. Тогда вам нужно обсудить прерывание в ближайшее время. Ваш гинеколог свяжется с вами. Если хотите, это можно сделать и в нашей больнице — выбор за вами. Хотите, я оставлю свои контакты, если будут вопросы?
— Да, пожалуйста.
Врачи выходят. И тут уже Лёша даёт волю своим чувствам. Я обнимаю его и протягиваю сухую салфетку взамен на мокрый комочек.
На выходе врач вручает лист с контактами, пожимает руку и с голосом, полным поддержки, говорит:
— Be strong.
Это был второй день.
Глава 3
«Вы будете держать малыша на руках?»
Важно отметить: решение о прерывании беременности мы принимали вместе с Лёшей. В понедельник, как только узнали диагноз, мы сошлись во мнении — мы не готовы брать на себя такую ответственность. Ребёнок с настолько тяжёлой патологией будет нуждаться в огромном количестве внимания и особого отношения — и физического, и эмоционального.
О втором ребёнке в такой ситуации говорить даже нет смысла: мы не смогли бы дать ему достаточно, если первый нуждался бы в двойной, а то и тройной поддержке.
Среда.
Мы снова сидим в больнице на лавочке у кабинета, ждём приёма. Дверь открывается, и впервые я слышу непривычное для уха:
— Миссис Чернова.
Мы заходим. Мой гинеколог спрашивает:
— У вас есть ко мне вопросы?
Эмпатией он никогда не отличался, но в этот момент мне казалось, что элементарное сочувствие всё же могло бы быть уместным.
Конечно, у меня целый список вопросов. Я начинаю с главного:
— Как так получилось, что нервная трубка не закрылась на 4–5-й неделе, а узнали мы об этом только на 23-й? Как именно происходит прерывание на 24-й неделе беременности? Какие риски у процедуры во втором триместре для последующих беременностей? Может ли мой муж присутствовать при прерывании?
Он отвечает на мои вопросы, рассказывает как будет проходить день прерывания беременности, а затем задаёт свои. И тоже начинает с главного:
— Вы будете держать малыша на руках?
— Конечно, нет, — отвечаю я, задыхаясь от кома в горле и от самого образа, складывающегося в голове.
— Это важно — попрощаться. Это поможет вам в процессе горевания.
— Нет, я не смогу. Мне потом будут сниться кошмары. Как я смогу стереть из памяти образ мёртвого ребёнка при последующих беременностях?
— Может быть, вам стоит обсудить это с психологом?
— Нет. Я не буду смотреть на малыша, тем более брать его на руки.
— Но всё же это важно — попрощаться. Вы были вместе пять месяцев, — настаивает он.
— Ладно… я подумаю.
— Конечно, просто подумайте. Сейчас не нужно принимать решение. Я дам вам брошюру. В ней есть вся информация, которая может вам пригодиться. Также подумайте, хотите ли вы кремировать малыша или хоронить, будете ли устраивать церемонию прощания…
Прошло всего два дня с того момента, как мы узнали диагноз. Два дня. Я едва могу поверить в сам факт, а уже должна выбирать между кремацией и похоронами.
— Сейчас не нужно принимать решений. Просто подумайте, — повторил он.
Я молча кивнула и взяла брошюру. На обложке — серебристое облачко одуванчика, от которого под ветром отрываются семена-парашютики. Надпись гласила: «Like a breeze… an unexpected prenatal diagnosis, some reflections». ( Перевод с английского: “Подобно дуновению… внезапный пренатальный диагноз, некоторые размышления”)
О втором ребёнке в такой ситуации говорить даже нет смысла: мы не смогли бы дать ему достаточно, если первый нуждался бы в двойной, а то и тройной поддержке.
Среда.
Мы снова сидим в больнице на лавочке у кабинета, ждём приёма. Дверь открывается, и впервые я слышу непривычное для уха:
— Миссис Чернова.
Мы заходим. Мой гинеколог спрашивает:
— У вас есть ко мне вопросы?
Эмпатией он никогда не отличался, но в этот момент мне казалось, что элементарное сочувствие всё же могло бы быть уместным.
Конечно, у меня целый список вопросов. Я начинаю с главного:
— Как так получилось, что нервная трубка не закрылась на 4–5-й неделе, а узнали мы об этом только на 23-й? Как именно происходит прерывание на 24-й неделе беременности? Какие риски у процедуры во втором триместре для последующих беременностей? Может ли мой муж присутствовать при прерывании?
Он отвечает на мои вопросы, рассказывает как будет проходить день прерывания беременности, а затем задаёт свои. И тоже начинает с главного:
— Вы будете держать малыша на руках?
— Конечно, нет, — отвечаю я, задыхаясь от кома в горле и от самого образа, складывающегося в голове.
— Это важно — попрощаться. Это поможет вам в процессе горевания.
— Нет, я не смогу. Мне потом будут сниться кошмары. Как я смогу стереть из памяти образ мёртвого ребёнка при последующих беременностях?
— Может быть, вам стоит обсудить это с психологом?
— Нет. Я не буду смотреть на малыша, тем более брать его на руки.
— Но всё же это важно — попрощаться. Вы были вместе пять месяцев, — настаивает он.
— Ладно… я подумаю.
— Конечно, просто подумайте. Сейчас не нужно принимать решение. Я дам вам брошюру. В ней есть вся информация, которая может вам пригодиться. Также подумайте, хотите ли вы кремировать малыша или хоронить, будете ли устраивать церемонию прощания…
Прошло всего два дня с того момента, как мы узнали диагноз. Два дня. Я едва могу поверить в сам факт, а уже должна выбирать между кремацией и похоронами.
— Сейчас не нужно принимать решений. Просто подумайте, — повторил он.
Я молча кивнула и взяла брошюру. На обложке — серебристое облачко одуванчика, от которого под ветром отрываются семена-парашютики. Надпись гласила: «Like a breeze… an unexpected prenatal diagnosis, some reflections». ( Перевод с английского: “Подобно дуновению… внезапный пренатальный диагноз, некоторые размышления”)
Глава 4
“Это уже с тобой произошло.
Тебе нужно будет пройти через это”
Тебе нужно будет пройти через это”
Прерывание назначили на следующую среду — ровно через неделю после обсуждения с гинекологом. По бельгийскому законодательству между моментом, когда женщина узнаёт диагноз, и прерыванием должно пройти не менее шести дней. У этой медали две стороны. С одной стороны, у меня было время всё обдумать, собрать информацию о диагнозе, почитать, как другие справлялись с подобными ситуациями, подготовиться к родам — ведь я совершенно не была готова рожать на пятом месяце и ещё не изучала этот вопрос. Эмоционально эта неделя дала мне возможность выплакаться, попытаться принять происходящее и встретиться с психологом. Но есть и обратная сторона — боль. Боль, которая длилась всю неделю, пока я чувствовала, как малыш пинается внутри. Я гладила живот, жадно запоминая каждый толчок, едва заметный снаружи, и не могла избавиться от мысли, что этим движениям осталось совсем недолго, ведь день прерывания уже назначен.
Когда слёзы отступали, я старалась насладиться этой беременностью и временем с малышом. За неделю мы гуляли, грелись на солнышке, плавали в бассейне, бегали с собакой в парке, и я даже улыбалась. Я принимала каждый день и все эмоции, которые он приносил. Это были самые эмоционально насыщенные дни в моей жизни. Утром я могла проснуться со слезами на глазах, а потом, гуляя с собакой, улыбаться, глядя, как листья деревьев то закрывают, то открывают солнце, согревающее моё лицо. Я слушала своё тело, давая выход всем эмоциям. Когда мысли о диагнозе сжимали горло, я плакала до тех пор, пока не чувствовала облегчение. При этом я не закрывалась от радостей жизни: смеялась, когда было смешно, улыбалась, ощущая тепло солнца. Я ела только любимую еду, понимая, что моему телу будет нелегко в день прерывания, и хотела наполнить его физическим ресурсом, чтобы облегчить этот момент.
По совету врача и подруг, которым я рассказала о случившемся, я записалась к больничному психологу. Контакт нашла в брошюре с одуванчиком. Через четыре дня после того понедельника я поднялась на другой этаж той же больницы. У двери меня встретила молодая улыбчивая девушка. Я работала с психологами раньше, но почти всегда онлайн. Лишь раз была очная встреча — в маленьком кабинете, похожем на переговорку. А этот кабинет был как из фильмов: уютные обои, большой цветок в углу, кофейный столик с двумя коробками салфеток, мягкие кресла и удобный двухместный диван. Я выбрала диван, аккуратно положила рядом рюкзак и приметила, до какой коробки с салфетками тянуться ближе.
— Я онкопсихолог, — начала девушка, — но постараюсь вам помочь. Расскажите, с чем вы пришли?
— Я даже не знаю, с чего начать, — с небольшим комом в горле и слезами на глазах ответила я. — Я беременна, на этой неделе у малыша обнаружили патологию, на следующей — прерывание. Врач спросил, хочу ли я подержать малыша на руках, чтобы попрощаться, потому что он считает, что так будет правильно. Но я не уверена, хочу ли этого. Не знаю, как поступить — смотреть на него или нет, держать или нет.
Мы не раз проговорили, что все люди и ситуации разные, и нет единственно правильного решения. Любое моё решение будет правильным для меня.
По дороге домой я думала о вопросах, которые задавала психолог:
— Почему вы боитесь посмотреть на малыша и подержать его?
— Как думаете, будут ли у вас сожаления, если вы этого не сделаете?
Ещё я думала о её словах: «Вы описываете ситуацию так: у вас есть налаженная, стабильная жизнь, устойчивая эмоциональность. Но сейчас в вашей жизни произошло землетрясение, причём сильное, и вы пытаетесь удержать всё на своих местах, чтобы ничего не разрушилось».
Её слова задели меня. Я действительно чувствовала себя так, будто стою на огромных плитах, которые трескаются под ногами — та самая стабильность, которая уходит из под ног. Я словно легла на эти плиты, пытаясь руками и ногами удержать их, чтобы они не разошлись. Это изнурительно и тяжело бороться с естественным ходом событий. «Может, отпустить борьбу и сдаться?» — подумала я. Год назад я переименовала свой айфон из Resistance в Surrender. Вот он, случай ощутить это на практике. (Перевод с английского: “Сопротивление” и "Покориться")
Когда-то давно я читала книгу Экхарта Толле «Сила настоящего». По мнению автора, в сложных жизненных ситуациях есть три пути:
Я оказалась в ситуации, от которой не могла ни уйти, ни что-либо изменить, поэтому единственным выходом было принять её — причём принять полностью.
Я сама выбираю, как пройти через эту трагедию — в борьбе или в equanimity.
(Equanimity is the state of being calm and in control of your emotions, esp. in a difficult situation” - Cambridge Dictionary. Перевод с английского: “Уравновешенность — это состояние спокойствия и контроля над своими эмоциями, особенно в трудной ситуации”).
В этот момент я решила двигаться в унисон со своим «землетрясением», принимая все аспекты этого несчастья. Это уникальный опыт, который, надеюсь, никогда не повторится. Но, проживая его полностью и принимая все его грани, я смогу помочь тем, кто столкнётся с подобным. В тот момент я решила встречать с распростертыми объятиями всё, что придёт в мою сторону, как бы больно мне не было.
Когда слёзы отступали, я старалась насладиться этой беременностью и временем с малышом. За неделю мы гуляли, грелись на солнышке, плавали в бассейне, бегали с собакой в парке, и я даже улыбалась. Я принимала каждый день и все эмоции, которые он приносил. Это были самые эмоционально насыщенные дни в моей жизни. Утром я могла проснуться со слезами на глазах, а потом, гуляя с собакой, улыбаться, глядя, как листья деревьев то закрывают, то открывают солнце, согревающее моё лицо. Я слушала своё тело, давая выход всем эмоциям. Когда мысли о диагнозе сжимали горло, я плакала до тех пор, пока не чувствовала облегчение. При этом я не закрывалась от радостей жизни: смеялась, когда было смешно, улыбалась, ощущая тепло солнца. Я ела только любимую еду, понимая, что моему телу будет нелегко в день прерывания, и хотела наполнить его физическим ресурсом, чтобы облегчить этот момент.
По совету врача и подруг, которым я рассказала о случившемся, я записалась к больничному психологу. Контакт нашла в брошюре с одуванчиком. Через четыре дня после того понедельника я поднялась на другой этаж той же больницы. У двери меня встретила молодая улыбчивая девушка. Я работала с психологами раньше, но почти всегда онлайн. Лишь раз была очная встреча — в маленьком кабинете, похожем на переговорку. А этот кабинет был как из фильмов: уютные обои, большой цветок в углу, кофейный столик с двумя коробками салфеток, мягкие кресла и удобный двухместный диван. Я выбрала диван, аккуратно положила рядом рюкзак и приметила, до какой коробки с салфетками тянуться ближе.
— Я онкопсихолог, — начала девушка, — но постараюсь вам помочь. Расскажите, с чем вы пришли?
— Я даже не знаю, с чего начать, — с небольшим комом в горле и слезами на глазах ответила я. — Я беременна, на этой неделе у малыша обнаружили патологию, на следующей — прерывание. Врач спросил, хочу ли я подержать малыша на руках, чтобы попрощаться, потому что он считает, что так будет правильно. Но я не уверена, хочу ли этого. Не знаю, как поступить — смотреть на него или нет, держать или нет.
Мы не раз проговорили, что все люди и ситуации разные, и нет единственно правильного решения. Любое моё решение будет правильным для меня.
По дороге домой я думала о вопросах, которые задавала психолог:
— Почему вы боитесь посмотреть на малыша и подержать его?
— Как думаете, будут ли у вас сожаления, если вы этого не сделаете?
Ещё я думала о её словах: «Вы описываете ситуацию так: у вас есть налаженная, стабильная жизнь, устойчивая эмоциональность. Но сейчас в вашей жизни произошло землетрясение, причём сильное, и вы пытаетесь удержать всё на своих местах, чтобы ничего не разрушилось».
Её слова задели меня. Я действительно чувствовала себя так, будто стою на огромных плитах, которые трескаются под ногами — та самая стабильность, которая уходит из под ног. Я словно легла на эти плиты, пытаясь руками и ногами удержать их, чтобы они не разошлись. Это изнурительно и тяжело бороться с естественным ходом событий. «Может, отпустить борьбу и сдаться?» — подумала я. Год назад я переименовала свой айфон из Resistance в Surrender. Вот он, случай ощутить это на практике. (Перевод с английского: “Сопротивление” и "Покориться")
Когда-то давно я читала книгу Экхарта Толле «Сила настоящего». По мнению автора, в сложных жизненных ситуациях есть три пути:
- Попытаться уйти из неё.
- Если уйти не получается, постараться её изменить.
- Если ни первое, ни второе невозможно, принять ситуацию полностью.
Я оказалась в ситуации, от которой не могла ни уйти, ни что-либо изменить, поэтому единственным выходом было принять её — причём принять полностью.
Я сама выбираю, как пройти через эту трагедию — в борьбе или в equanimity.
(Equanimity is the state of being calm and in control of your emotions, esp. in a difficult situation” - Cambridge Dictionary. Перевод с английского: “Уравновешенность — это состояние спокойствия и контроля над своими эмоциями, особенно в трудной ситуации”).
В этот момент я решила двигаться в унисон со своим «землетрясением», принимая все аспекты этого несчастья. Это уникальный опыт, который, надеюсь, никогда не повторится. Но, проживая его полностью и принимая все его грани, я смогу помочь тем, кто столкнётся с подобным. В тот момент я решила встречать с распростертыми объятиями всё, что придёт в мою сторону, как бы больно мне не было.
Глава 5
“Во мне любви больше, чем боли”
— В день прерывания беременности вам нужно приехать в больницу к 6:30 утра, — сказал мой гинеколог.
— То есть мало того, что день будет сложный, так я ещё и нормально не высплюсь, — пробурчала я себе под нос.
— В восемь вы уже должны быть в операционной, а до этого вас нужно подготовить.
Среда. День прерывания беременности.
Мы заходим в больницу через крыло emergency — главный вход ещё закрыт. Поднимаемся на нужный этаж. В просыпающемся отделении maternité нас встречает акушерка. Ей почти не нужно объяснять, кто мы и зачем пришли. Случаи, когда пара приходит в родильный блок с едва округлившимся животом, здесь наверняка редкость.
Акушерка оказывается очень милой. Она измеряет давление, температуру, помогает переодеться, ставит катетер. При этом, качая головой, приговаривает, как же нам не повезло. Рассказывает о своём выкидыше, о третьем, незапланированном ребёнке и о том, как дети помогли ей пережить горе. «Но у вас всё тяжелее, — добавляет она. — У вас первый ребёнок — и сразу такое испытание».
Не могу сказать, что её слова мне помогали. Я понимаю, что так она выражала сочувствие, и очень благодарна ей, но от этого внутри рос ком грусти и сожаления. Я дала себе установку: сегодня — физиологически очень тяжёлый день. Организму предстоит пройти через операцию и роды, когда матка не готова. Если я дам волю чувствам и эмоциям, то пройти через эту боль мне будет намного сложнее, поэтому до того как появится малыш - не раскисать.
Прерывание начинается с операции по остановке сердечка малыша, чтобы он не страдал в родах. Через прокол живота в пуповину вводят хлорид калия. Перед вмешательством подошёл мой гинеколог, на лице у него было максимально эмпатичное выражение. Он спросил, как я себя чувствую, и сказал, что меня скоро отвезут в операционную. Перед тем как он отошёл, я посмотрела ему в глаза, улыбнулась и сказала: «I trust you». Я старалась сохранять спокойствие, глубоко и медленно дышать. Но тело вдруг начало сильно трясти, как от озноба. Хотя я лежала под одеялом, а на улице было +30.
Меня привозят в операционную, и, перекладываясь со своей кровати на операционный стол, я чувствую, как тело продолжает дрожать. Я вдыхаю глубоко и вдруг улавливаю нотки мужского парфюма — моего любимого. Улыбаюсь и говорю: «У кого-то из вас очень приятный парфюм». Все улыбаются в ответ. Анестезиолог надевает кислородную маску: «Скажите, когда почувствуете головокружение». Через несколько секунд я закрываю глаза.
Просыпаюсь через час, около девяти утра. Первое, что чувствую, — как манжета сжимает бицепс, измеряя давление. Дрожь возвращается, тело снова колотит. Подходит анестезиолог:
— Как вы себя чувствуете?
— В целом нормально, но меня сильно трясёт.
— Это нормально. Вам не стоит недооценивать ситуацию. У вас сегодня очень непростой день. Удачи, - и ушел.
Может, тело так вытряхивает эмоции, которые я запретила себе выпускать? Подсознательно я чувствую жуткую боль от того, что моему малышу остановили сердце в самом безопасном месте — в моём животе.
Меня привозят в палату. Лёша ещё не вернулся — мы договорились, что он проводит меня на операцию, а потом поедет погуляет с собакой. Пока жду, делаю мысленный скан тела. Дышу медленно, спускаясь от макушки к пальцам ног, чтобы понять, в каком состоянии мой организм и где тряска ощущается больше всего. Останавливаюсь на животе и чувствую пустоту, словно тёмную дыру. Никаких шевелений. Мой малыш больше не пинается. Он больше не живой.
Скажу честно, я даже не представляю, насколько тяжело мне было бы в этот день оказаться в общей палате с женщинами, которые готовятся родить или уже держат на руках своего малыша. Почему в таких ситуациях, как у нас, не предусмотрена дефолтная опция одиночной палаты — вне зависимости от страховки? Каково это — слышать плач новорождённого рядом, когда у тебя только что родился мёртвый ребёнок? А что насчет других мам, готовящихся родить? Каково им знать, что рядом с ними женщина готовится родить мертвого малыша?...
Лёша привозит завтрак, и, пока мы кушаем, я рассказываю ему, что у одного из врачей был такой же парфюм, как тот, что я подарила ему. Улыбаюсь и добавляю, что косвенно ощущала его присутствие в операционной.
Заходит акушерка и спрашивает есть ли у нас с собой одежда для малыша, во что его обернуть после родов. Мы мотаем головой. Она уходит и возвращается уже с тремя маленькими конвертиками и шапочками на выбор.
— Это наши волонтеры делают такие конвертики и шьют шапочки для таких малышей как ваш. Это все бесплатно, выбирайте, что хотите. Кстати, для вас там на столе еще целый чемоданчик от волонтеров - берите оттуда все что захотите, гипс для слепков, открытки, браслеты, рамочки для фотографий, и другие сувениры. А имя малышу вы уже придумали? Будет удобнее для документации если есть имя, но если нет, ничего страшного. Сейчас не нужно принимать решение. Просто подумайте.
Из трёх конвертиков мне сразу приглянулся зелёно-красный с ёжиками. С того дня, как я узнала о спина бифида, в голове крутится советская песенка про ёжика с дырочкой в правом боку: «Небо лучистое, облако чистое, на именины к щенку, ёжик резиновый шёл и насвистывал дырочкой в правом боку». У нашего ёжика тоже дырочка, но не в боку, а на копчике.
Индукция родов таблетками простагландина начинается в 12:00. Я получаю первую дозу гормона орально и вагинально. Через два часа мне дают такую же дозу. Внизу живота начинаются лёгкие потягивания, но прям совсем незначительные. Помня, что брошюры для беременных пестрят советом отдыхать и кайфовать между схватками, я прошу Лёшу задёрнуть шторы и включить расслабляющую музыку. И нет, не подумайте ничего такого — я просто решила поспать. Присутствие мужа и его прикосновения помогают мне расслабиться, но заснуть всё же не удаётся. Я лежу с закрытыми глазами, слушаю музыку, чувствую тепло его рук, как вдруг он резко их отдёргивает. Открываю глаза и вижу, как Лёша, с полузакрытыми глазами, пытается не уронить голову на мою подушку. «Хоть кому-то это помогает», — думаю я.
В 16:00 мне дают очередную дозу простагландинов, и уже через пятнадцать минут я начинаю ощущать очень болезненные схватки — резкие и частые. Все мы знаем главное правило закидывания таблетками: скушал — подожди, чтобы понять действие, а если ничего не чувствуешь — подожди ещё немного, но не бери больше. У всех метаболизм разный. Корчась от боли, я с улыбкой думаю: «Ну всё, походу, произошел передоз простагландинами».
Заходит акушерка, говорит, что терпеть боль не нужно, и напоминает, что может подключить меня к аппарату с морфином. «Морфин… как раз то, что мне сейчас нужно», — слегка кряхтя, отвечаю я. Обычно морфин не предлагают как обезболивающее во время родов, но в моём случае малышу хуже уже не будет. Ещё на консультации с гинекологом, наивно полагая, что боль зависит от размера ребёнка, я сказала, что постараюсь родить без эпидуральной анестезии. Он не стал меня отговаривать, но предложил морфин как альтернативу.
И вот я в родовой палате, сижу на фитболе, кряхчу, сжимая в руках заветную кнопку дозатора морфина. Это patient-controlled analgesia, то есть я сама решаю, когда добавить морфина, но передозировка невозможна — встроенный таймер не даёт возможности нажимать кнопку слишком часто. Акушерка оставляет меня с морфином и просит позвать её, если что-то изменится. Я конечно недоуменно вскидываю брови, так как в моем представлении, у меня тут каждую секунду что-то меняется и происходит, а какие перемены достойны, чтобы ей о них доложить - не понятно.
В палате, где я рожала, не было ничего, чтобы облегчить мою боль, кроме фитбола. Мы принесли с собой колонку с музыкой для атмосферы, но на этом, пожалуй, всё. Там не было ни ванны, ни душа, ни родовой петли, свисающей с потолка. Окна палаты выходили на юго-запад, поэтому она была залита солнцем. С учётом того, что на улице было +32 °C, это ощущалось невыносимо жарко, и я попросила принести хотя бы вентилятор, поскольку, как нам объяснили, кондиционеры в родовых блоках запрещены. Позже, размышляя о том, как всё проходило, я подумала, насколько это нелогично: женщина, перестимулированная простагландинами и испытывающая ещё бóльшую боль, чем при естественных родах, не имеет доступа к различным методам естественного обезболивания и вынуждена справляться с этой болью самостоятельно. Более того, в итоге у неё даже не будет живого ребёнка, ради которого пришлось бы терпеть всю эту боль. Хорошо хоть эпидуральная анестезия разрешена.
Всё это время рядом со мной только мой муж, которому приходится справляться с очень требовательным «клиентом». «Лёш, принеси воды… ой, нет, хочу холодной… а теперь хочу электролитный Powerade», «Мне жарко, помаши веером, пожалуйста… ой, не так сильно, холодно же», «Сделай мне массаж», «Принеси перекусить», «Посмотри, когда эта кнопка снова загорится зелёным». Позже он признается, что самым тяжёлым для него было видеть мою боль и не знать, как мне помочь. Я безумно благодарна ему за то, что он был рядом, — я даже не представляю как бы я справилась без него, одна в палате.
Схватки были настолько болезненными и частыми из-за стимуляции родовой деятельности, что я сильно устала, и попросила эпидуральную анестезию. Перед этим акушерка сообщает, что раскрытие шейки матки — всего один сантиметр. Мне меняют кнопку дозатора морфина на дозатор эпидуральной анестезии и снова просят позвать, если что-то изменится. Примерно через тридцать минут после установки эпидуралки я начинаю чувствовать её эффект. К 19:00 я лежу на кровати с онемевшими ногами, уже не испытывая той мучительной боли. Схватки накатывают волнами, я их ощущаю, но это уже совсем другая история. Во время одной из таких схваток отходят воды. Я смотрю на Лёшу и с улыбкой говорю: «Похоже, это те изменения, о которых стоит сообщить. Нажми кнопку вызова акушерки, пожалуйста». Акушерка заходит, меняет пелёнки подо мной и сообщает, что раскрытие достигло трёх сантиметров. «Нужно примерно пять сантиметров в вашей ситуации», — говорит она и выходит. Не успевает она закрыть дверь, как я чувствую странное распирание между ног.
— Лёш, посмотри, пожалуйста, мне кажется, малыш выходит, — говорю я.
— Да, похоже, что-то выходит, — отвечает он.
— Позови акушерку обратно, если не готов сам принимать малыша.
Акушерка возвращается, на ходу надевает перчатки и звонит врачу, сообщая, что планы изменились и малыш выходит. Следующие пять минут проходят стремительно. Лёше дают пелёнку, чтобы он держал её как ширму, закрывающую меня от ребёнка. Малыш выходит попой вперёд буквально через одну схватку, а ещё через две, с помощью нескольких манипуляций гинеколога, выходит плацента. Лёше предлагают ножницы, чтобы перерезать пуповину, но он, не готовый к такому, просит акушерку сделать это самой. Я смотрю на часы на стене — 19:30.
Малыша забрали сразу после родов и вернули через полчаса. Он лежал в том самом зелёно-красном конверте с ёжиками, перевязанный жёлтой атласной лентой, в зелёной шапочке. Первые секунды я боялась на него смотреть. В интернете я видела пугающие картинки малышей, рождённых на 24-й неделе.
Акушерка передала нам Ваню и сказала: «Теперь вы родители». Горячие слёзы потекли по щекам — это было совсем не так, как я представляла, что услышу эти слова впервые. Теперь можно было дать волю эмоциям, не сдерживаться. Слёзы капали на конверт с ёжиками. Я посмотрела на Ваню. Он совсем не был похож на те картинки из интернета. Его тело было полностью сформировано – от ушек до ноготков на пальчиках. Это был настоящий малыш, просто очень маленький – 33 см и 600 граммов.
«Он прекрасен, — подумала я, — он тот, кого хочется любить». Ваня удобно лёг в одну руку: головка на ладошке, ножки упирались в локоть. «Каждую крошку — в ладошку», — вспомнила я фразу. Пока я на него смотрела, слезы прекратились, а мышцы лица расслабились в улыбке. Я почувствовала, что моя внутренняя непогода будто заканчивается и начинает проглядываться солнышко. Даже неживой, мой малыш давал мне такую волну счастья и умиления, что когда через два часа зашёл врач и спросил: «How are you?», я ответила: «More in love than in pain».
(“Во мне больше любви чем боли”).
— То есть мало того, что день будет сложный, так я ещё и нормально не высплюсь, — пробурчала я себе под нос.
— В восемь вы уже должны быть в операционной, а до этого вас нужно подготовить.
Среда. День прерывания беременности.
Мы заходим в больницу через крыло emergency — главный вход ещё закрыт. Поднимаемся на нужный этаж. В просыпающемся отделении maternité нас встречает акушерка. Ей почти не нужно объяснять, кто мы и зачем пришли. Случаи, когда пара приходит в родильный блок с едва округлившимся животом, здесь наверняка редкость.
Акушерка оказывается очень милой. Она измеряет давление, температуру, помогает переодеться, ставит катетер. При этом, качая головой, приговаривает, как же нам не повезло. Рассказывает о своём выкидыше, о третьем, незапланированном ребёнке и о том, как дети помогли ей пережить горе. «Но у вас всё тяжелее, — добавляет она. — У вас первый ребёнок — и сразу такое испытание».
Не могу сказать, что её слова мне помогали. Я понимаю, что так она выражала сочувствие, и очень благодарна ей, но от этого внутри рос ком грусти и сожаления. Я дала себе установку: сегодня — физиологически очень тяжёлый день. Организму предстоит пройти через операцию и роды, когда матка не готова. Если я дам волю чувствам и эмоциям, то пройти через эту боль мне будет намного сложнее, поэтому до того как появится малыш - не раскисать.
Прерывание начинается с операции по остановке сердечка малыша, чтобы он не страдал в родах. Через прокол живота в пуповину вводят хлорид калия. Перед вмешательством подошёл мой гинеколог, на лице у него было максимально эмпатичное выражение. Он спросил, как я себя чувствую, и сказал, что меня скоро отвезут в операционную. Перед тем как он отошёл, я посмотрела ему в глаза, улыбнулась и сказала: «I trust you». Я старалась сохранять спокойствие, глубоко и медленно дышать. Но тело вдруг начало сильно трясти, как от озноба. Хотя я лежала под одеялом, а на улице было +30.
Меня привозят в операционную, и, перекладываясь со своей кровати на операционный стол, я чувствую, как тело продолжает дрожать. Я вдыхаю глубоко и вдруг улавливаю нотки мужского парфюма — моего любимого. Улыбаюсь и говорю: «У кого-то из вас очень приятный парфюм». Все улыбаются в ответ. Анестезиолог надевает кислородную маску: «Скажите, когда почувствуете головокружение». Через несколько секунд я закрываю глаза.
Просыпаюсь через час, около девяти утра. Первое, что чувствую, — как манжета сжимает бицепс, измеряя давление. Дрожь возвращается, тело снова колотит. Подходит анестезиолог:
— Как вы себя чувствуете?
— В целом нормально, но меня сильно трясёт.
— Это нормально. Вам не стоит недооценивать ситуацию. У вас сегодня очень непростой день. Удачи, - и ушел.
Может, тело так вытряхивает эмоции, которые я запретила себе выпускать? Подсознательно я чувствую жуткую боль от того, что моему малышу остановили сердце в самом безопасном месте — в моём животе.
Меня привозят в палату. Лёша ещё не вернулся — мы договорились, что он проводит меня на операцию, а потом поедет погуляет с собакой. Пока жду, делаю мысленный скан тела. Дышу медленно, спускаясь от макушки к пальцам ног, чтобы понять, в каком состоянии мой организм и где тряска ощущается больше всего. Останавливаюсь на животе и чувствую пустоту, словно тёмную дыру. Никаких шевелений. Мой малыш больше не пинается. Он больше не живой.
Скажу честно, я даже не представляю, насколько тяжело мне было бы в этот день оказаться в общей палате с женщинами, которые готовятся родить или уже держат на руках своего малыша. Почему в таких ситуациях, как у нас, не предусмотрена дефолтная опция одиночной палаты — вне зависимости от страховки? Каково это — слышать плач новорождённого рядом, когда у тебя только что родился мёртвый ребёнок? А что насчет других мам, готовящихся родить? Каково им знать, что рядом с ними женщина готовится родить мертвого малыша?...
Лёша привозит завтрак, и, пока мы кушаем, я рассказываю ему, что у одного из врачей был такой же парфюм, как тот, что я подарила ему. Улыбаюсь и добавляю, что косвенно ощущала его присутствие в операционной.
Заходит акушерка и спрашивает есть ли у нас с собой одежда для малыша, во что его обернуть после родов. Мы мотаем головой. Она уходит и возвращается уже с тремя маленькими конвертиками и шапочками на выбор.
— Это наши волонтеры делают такие конвертики и шьют шапочки для таких малышей как ваш. Это все бесплатно, выбирайте, что хотите. Кстати, для вас там на столе еще целый чемоданчик от волонтеров - берите оттуда все что захотите, гипс для слепков, открытки, браслеты, рамочки для фотографий, и другие сувениры. А имя малышу вы уже придумали? Будет удобнее для документации если есть имя, но если нет, ничего страшного. Сейчас не нужно принимать решение. Просто подумайте.
Из трёх конвертиков мне сразу приглянулся зелёно-красный с ёжиками. С того дня, как я узнала о спина бифида, в голове крутится советская песенка про ёжика с дырочкой в правом боку: «Небо лучистое, облако чистое, на именины к щенку, ёжик резиновый шёл и насвистывал дырочкой в правом боку». У нашего ёжика тоже дырочка, но не в боку, а на копчике.
Индукция родов таблетками простагландина начинается в 12:00. Я получаю первую дозу гормона орально и вагинально. Через два часа мне дают такую же дозу. Внизу живота начинаются лёгкие потягивания, но прям совсем незначительные. Помня, что брошюры для беременных пестрят советом отдыхать и кайфовать между схватками, я прошу Лёшу задёрнуть шторы и включить расслабляющую музыку. И нет, не подумайте ничего такого — я просто решила поспать. Присутствие мужа и его прикосновения помогают мне расслабиться, но заснуть всё же не удаётся. Я лежу с закрытыми глазами, слушаю музыку, чувствую тепло его рук, как вдруг он резко их отдёргивает. Открываю глаза и вижу, как Лёша, с полузакрытыми глазами, пытается не уронить голову на мою подушку. «Хоть кому-то это помогает», — думаю я.
В 16:00 мне дают очередную дозу простагландинов, и уже через пятнадцать минут я начинаю ощущать очень болезненные схватки — резкие и частые. Все мы знаем главное правило закидывания таблетками: скушал — подожди, чтобы понять действие, а если ничего не чувствуешь — подожди ещё немного, но не бери больше. У всех метаболизм разный. Корчась от боли, я с улыбкой думаю: «Ну всё, походу, произошел передоз простагландинами».
Заходит акушерка, говорит, что терпеть боль не нужно, и напоминает, что может подключить меня к аппарату с морфином. «Морфин… как раз то, что мне сейчас нужно», — слегка кряхтя, отвечаю я. Обычно морфин не предлагают как обезболивающее во время родов, но в моём случае малышу хуже уже не будет. Ещё на консультации с гинекологом, наивно полагая, что боль зависит от размера ребёнка, я сказала, что постараюсь родить без эпидуральной анестезии. Он не стал меня отговаривать, но предложил морфин как альтернативу.
И вот я в родовой палате, сижу на фитболе, кряхчу, сжимая в руках заветную кнопку дозатора морфина. Это patient-controlled analgesia, то есть я сама решаю, когда добавить морфина, но передозировка невозможна — встроенный таймер не даёт возможности нажимать кнопку слишком часто. Акушерка оставляет меня с морфином и просит позвать её, если что-то изменится. Я конечно недоуменно вскидываю брови, так как в моем представлении, у меня тут каждую секунду что-то меняется и происходит, а какие перемены достойны, чтобы ей о них доложить - не понятно.
В палате, где я рожала, не было ничего, чтобы облегчить мою боль, кроме фитбола. Мы принесли с собой колонку с музыкой для атмосферы, но на этом, пожалуй, всё. Там не было ни ванны, ни душа, ни родовой петли, свисающей с потолка. Окна палаты выходили на юго-запад, поэтому она была залита солнцем. С учётом того, что на улице было +32 °C, это ощущалось невыносимо жарко, и я попросила принести хотя бы вентилятор, поскольку, как нам объяснили, кондиционеры в родовых блоках запрещены. Позже, размышляя о том, как всё проходило, я подумала, насколько это нелогично: женщина, перестимулированная простагландинами и испытывающая ещё бóльшую боль, чем при естественных родах, не имеет доступа к различным методам естественного обезболивания и вынуждена справляться с этой болью самостоятельно. Более того, в итоге у неё даже не будет живого ребёнка, ради которого пришлось бы терпеть всю эту боль. Хорошо хоть эпидуральная анестезия разрешена.
Всё это время рядом со мной только мой муж, которому приходится справляться с очень требовательным «клиентом». «Лёш, принеси воды… ой, нет, хочу холодной… а теперь хочу электролитный Powerade», «Мне жарко, помаши веером, пожалуйста… ой, не так сильно, холодно же», «Сделай мне массаж», «Принеси перекусить», «Посмотри, когда эта кнопка снова загорится зелёным». Позже он признается, что самым тяжёлым для него было видеть мою боль и не знать, как мне помочь. Я безумно благодарна ему за то, что он был рядом, — я даже не представляю как бы я справилась без него, одна в палате.
Схватки были настолько болезненными и частыми из-за стимуляции родовой деятельности, что я сильно устала, и попросила эпидуральную анестезию. Перед этим акушерка сообщает, что раскрытие шейки матки — всего один сантиметр. Мне меняют кнопку дозатора морфина на дозатор эпидуральной анестезии и снова просят позвать, если что-то изменится. Примерно через тридцать минут после установки эпидуралки я начинаю чувствовать её эффект. К 19:00 я лежу на кровати с онемевшими ногами, уже не испытывая той мучительной боли. Схватки накатывают волнами, я их ощущаю, но это уже совсем другая история. Во время одной из таких схваток отходят воды. Я смотрю на Лёшу и с улыбкой говорю: «Похоже, это те изменения, о которых стоит сообщить. Нажми кнопку вызова акушерки, пожалуйста». Акушерка заходит, меняет пелёнки подо мной и сообщает, что раскрытие достигло трёх сантиметров. «Нужно примерно пять сантиметров в вашей ситуации», — говорит она и выходит. Не успевает она закрыть дверь, как я чувствую странное распирание между ног.
— Лёш, посмотри, пожалуйста, мне кажется, малыш выходит, — говорю я.
— Да, похоже, что-то выходит, — отвечает он.
— Позови акушерку обратно, если не готов сам принимать малыша.
Акушерка возвращается, на ходу надевает перчатки и звонит врачу, сообщая, что планы изменились и малыш выходит. Следующие пять минут проходят стремительно. Лёше дают пелёнку, чтобы он держал её как ширму, закрывающую меня от ребёнка. Малыш выходит попой вперёд буквально через одну схватку, а ещё через две, с помощью нескольких манипуляций гинеколога, выходит плацента. Лёше предлагают ножницы, чтобы перерезать пуповину, но он, не готовый к такому, просит акушерку сделать это самой. Я смотрю на часы на стене — 19:30.
Малыша забрали сразу после родов и вернули через полчаса. Он лежал в том самом зелёно-красном конверте с ёжиками, перевязанный жёлтой атласной лентой, в зелёной шапочке. Первые секунды я боялась на него смотреть. В интернете я видела пугающие картинки малышей, рождённых на 24-й неделе.
Акушерка передала нам Ваню и сказала: «Теперь вы родители». Горячие слёзы потекли по щекам — это было совсем не так, как я представляла, что услышу эти слова впервые. Теперь можно было дать волю эмоциям, не сдерживаться. Слёзы капали на конверт с ёжиками. Я посмотрела на Ваню. Он совсем не был похож на те картинки из интернета. Его тело было полностью сформировано – от ушек до ноготков на пальчиках. Это был настоящий малыш, просто очень маленький – 33 см и 600 граммов.
«Он прекрасен, — подумала я, — он тот, кого хочется любить». Ваня удобно лёг в одну руку: головка на ладошке, ножки упирались в локоть. «Каждую крошку — в ладошку», — вспомнила я фразу. Пока я на него смотрела, слезы прекратились, а мышцы лица расслабились в улыбке. Я почувствовала, что моя внутренняя непогода будто заканчивается и начинает проглядываться солнышко. Даже неживой, мой малыш давал мне такую волну счастья и умиления, что когда через два часа зашёл врач и спросил: «How are you?», я ответила: «More in love than in pain».
(“Во мне больше любви чем боли”).
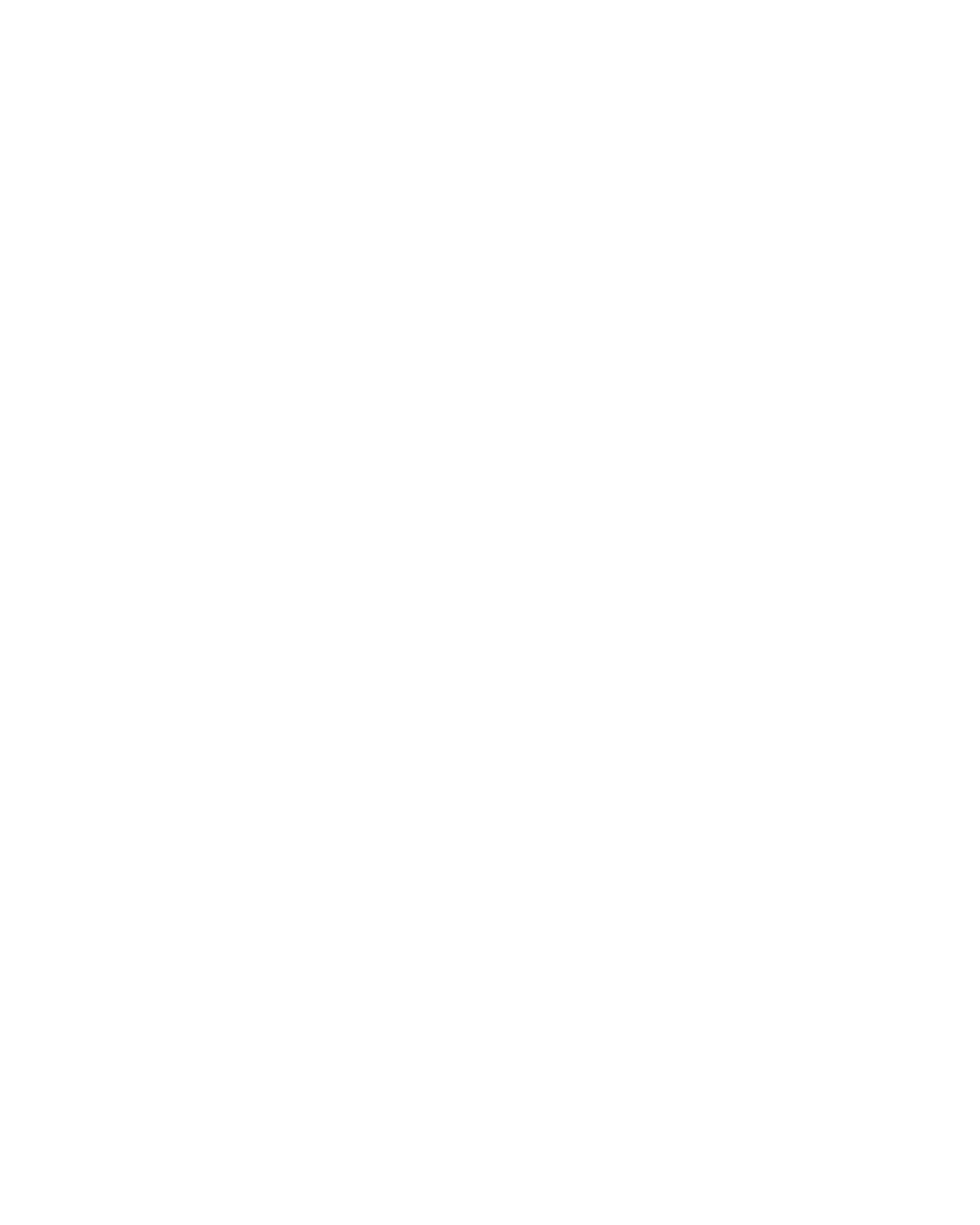
Глава 6
“Я выбрала услышать своего малыша, услышать себя —
и найти в этой трагедии смысл”
и найти в этой трагедии смысл”
Кого из нас учат горевать? Кто вообще знает, что действительно нужно человеку в этот период?
Когда я сама столкнулась с этим, то поняла, что путь у каждого свой. Кому-то становится чуть легче, если он уходит с головой в работу или заботы о семье, чтобы не дать месту боли и тяжёлым мыслям. А кто-то надолго остаётся на этих эмоциональных качелях из слёз и боли — на месяцы, а порой и на годы, пока всё не выплачется. Здесь нет правильного или неправильного варианта. Любой путь, любой выбор оказывается верным, если он подходит именно вам.
Я не знала, каким будет мой путь, но уже приняла решение двигаться вместе с “землетрясением”. Поэтому интуитивно я была открыта всему — и тому, что приходит изнутри, и тому, что приходит извне в этот период. Единственное, что мне хотелось - так это не блокировать мысли, подменяя их другой деятельностью, и давать волю всем эмоциям.
Первые дни были очень тяжёлыми: я чувствовала себя, как оголённый провод. Любая мелочь могла спровоцировать во мне волну горьких слёз. Иногда они приходили без повода — просто как горячий источник, который ищет выход наружу. Когда я плакала, я старалась ощущать своё тело, не пыталась остановиться или подавить слёзы. Мне хотелось позволить себе быть в этом состоянии, принять его, прожить — плакать до тех пор, пока не почувствую облегчение в теле. Удивительным образом, чем больше я давала места этим болезненным ощущениям, тем слабее становилась сама боль.
Внутренние эволюционные механизмы организма сработали чётко. На следующий день после родов у меня начала набухать грудь, и начался период лактации. В больнице мне дали таблетки с антипролактином, чтобы сигнализировать мозгу о прекращении выработки молока, но для полного угасания этого процесса требуется время. Поэтому ещё примерно неделю или чуть больше я была «молокозаводом». Напомню, всё это происходило в середине лета, когда окна у всех были открыты. И стоило в доме напротив заплакать новорождённому малышу, как моя грудь мгновенно реагировала и начинала вырабатывать молоко.
Я не спешила и не подталкивала свой организм быстрее восстановиться. Мой фокус был на том, чтобы дать телу именно то, что ему нужно сегодня. Для этого мне нужно было его слышать, а слышать — значит дышать медленно и глубоко, медитировать. Иногда тело просило сострадания, иногда — исцеляющего массажа. Однажды я почувствовала острое чувство благодарности ему за всё, через что оно прошло.
Дыхание и медитация стали моими первыми спасательными веточками в этой бурлящей реке. В книге Расса Хэрриса «Когда жизнь сбивает с ног» я узнала про технику «бросить якорь». Автор описывает, как вместо борьбы с болезненными мыслями и ощущениями можно дать им место в себе, признать их и назвать. И тогда они постепенно теряют власть над тобой. Ты обучаешь своё тело иначе реагировать на горе — без боли и без борьбы. Этот способ очень откликнулся мне. Я уже пять лет учусь медитировать, признавать мысли и ощущения, но не погружаться в них, и каждый раз, когда мне кажется: «Ну вот, я поняла, о чём это», — я осознаю, что мне еще многое предстоит узнать.
Пока алгоритмы социальных сетей продолжали бомбардировать меня видео и постами о счастливых беременностях, я пыталась найти информацию о перинатальных потерях. Таких историй немного в открытом пространстве, хотя случаев немало. Если уж девушки редко говорят о выкидышах на ранних сроках, то о таком еще тяжелее рассказывать. Мне очень помогли сайт perinatalist.ru и подкаст «Репродуктивный квест». Я чувствовала, как эта информация расширяет мой взгляд на перинатальные потери и спектр проблем, с которыми сталкиваются женщины. Я не искала более трагичные случаи, чтобы преуменьшить своё горе. Наоборот — я расширяла свое видение на такие трагедии и давала им всем место в своем сознании. Одной из самых запомнившихся стала история Анны Старобинец, описанная ею в книге «Посмотри на него».
По рекомендации подруги я послушала большое количество эпизодов подкаста “В конце концов”. В нем доулы смерти помогают изменить отношение общества к смерти. Об этом почти никто не говорит, но, забеременев, многие женщины сталкиваются с преследующим их страхом смерти. Сначала боишься, что с малышом что-то случится в первом триместре, когда риск выкидыша самый высокий. Потом, во втором триместре, переживаешь, если долго не чувствуешь шевелений. Затем думаешь как пройдут роды для малыша. В первый год жизни вздрагиваешь, когда срабатывает монитор сна. Потом ребенок идет в ясли, школу, первый раз задерживается допоздна и не отвечает на телефон. Страх смерти всегда рядом. И если не хочешь сойти с ума, нужно принять и эту сторону жизни.
Примерно через неделю после прерывания, в один из тех дней, когда я заливалась слезами, я почувствовала сильное желание увидеть Ваню ещё раз до того, как его кремируют. Не только увидеть — написать ему письмо и положить его в гробик. Мне хотелось сказать ещё раз, что он навсегда будет частью нашей команды и моим первым сыном. Нас заранее предупредили, что его внешний вид изменился по сравнению с тем, что мы видели после родов. Лёша сразу сказал, что хорошо его запомнил и уже попрощался, поэтому делает это только ради меня.
Мы приехали в больницу и спустились на нижний этаж, в морг. Я заранее подготовила несколько носовых платочков. Нас пригласили в комнату. Мы вошли в помещение, плотно занавешенное шторами, где посередине стоял маленький деревянный гробик на подставке. Мне было очень страшно заглянуть внутрь. Я собралась с духом, сжала платок в руке и подошла ближе. Ванино тело было холодным, чёрствым и полностью серым, как асфальт. Это был уже не Ваня — это была смерть. На удивление себе я не проронила ни одной слезы. По какой-то причине для меня было важно увидеть его таким, понять, что его больше нет. Это помогло мне принять потерю, и после этого стало немного легче.
Нам кажется, что смерть — это про пожилых людей, бабушек, дедушек, родителей. Но иногда смерть приходит внезапно, и жизнь может быть совсем короткой. Это не отменяет её значимости, того смысла и ценности, которые она приносит в мир. За свою пятимесячную жизнь Ваня многому меня научил. Я поняла, что дети могут уходить неожиданно. Хотя все мы сталкиваемся со смертью, мы почти не говорим о ней. Нет ни одного человека, который мог бы поделиться опытом её прохождения. Но это не значит, что её нет или что о ней не нужно говорить. Смерть — это часть жизни, та часть, которая делает её полной.
Ваня показал мне, как ещё можно любить. Не только ощутить фракцию материнской любви, но и научиться любить саму жизнь — принимать её такой, какая она есть. Смотреть на мир открыто, чувствовать, что действительно важно, а что лишь иллюзия занятости. Он раскрыл для меня новую грань существования, ранее мне не знакомую. Жизнь может быть и такой. Если впустить боль и дать ей место, не позволяя ей вытеснять всё остальное, то трагедия наполнит её новым смыслом. Каждый сам выбирает, как относиться к потере ребёнка. Я выбрала услышать своего малыша, услышать себя — и найти в этой трагедии смысл.
Когда я начала работать с психологом после потери сына, я описала свой запрос так: трагедия ощущается как тяжёлый рюкзак, который я буду нести очень долго, если не всю жизнь. Это часть моей истории — как первый класс, первое путешествие за границу или первая работа. Я могу какое-то время носить этот рюкзак на плечах, но он начнёт давить, и станет тяжело. Я не хочу от него избавиться, но и не хочу, чтобы он причинял боль. Я хочу приделать к рюкзаку колёсики — и спокойно катить его рядом с собой.
Отвечать на вопросы психолога было больно, а порой — невыносимо. В отличие от друзей, которые интересовались тем, что я ела во время родов, она спрашивала, что я чувствовала в момент, когда получила подтверждение из второй больницы. Ее вопросы заставляли меня снова возвращаться туда, где было очень больно. Я приходила в эти воспоминания и заново проживала их. Вспоминала всё до мельчайших деталей: в какой одежде была, где сидел или стоял Леша, какие предметы меня окружали, какая была погода в тот день.
Но только в этот раз я чувствовала себя наблюдателем, словно стояла в стороне и называла все эмоции, которые видела, сострадая самой себе. Когда воспоминание доходило до пика болезненности, я-наблюдатель мысленно крепко обнимала себя. Это было больно, но я чувствовала, что мне это необходимо для восстановления. Знаете, как в кино показывают сцену, где брутальный главный герой получает глубокий ножевой разрез на теле? И вот он берет степлер и, проходя по ране, вставляет скрепки. Выглядит это жутко и болезненно, но необходимо для заживления. Здесь было примерно то же самое, только на эмоциональном уровне. Я пыталась затянуть открытую рану, но лишь прикасаясь к ней могла себе помочь.
****
Я прошла большой путь — от отрицания: «Нет, я не буду смотреть на малыша», до принятия: похода в муниципалитет и запроса официального документа, подтверждающего, что Ваня был и что мы его родители.
Когда мы выписывались из больницы, я спросила, будет ли у меня какой-нибудь документ, подтверждающий, что моя беременность была прервана. Врач ответил, что такого документа не предусмотрено, и что у меня останутся только воспоминания. Я не сразу почувствовала необходимость в каких-то артефактах, которые бы подтверждали, что всё происходящее было реальностью, а не сном.
У нас уже была самодельная открытка 10×15 см, сделанная акушеркой в день рождения Вани. На белой, слегка гофрированной бумаге золотой краской были отпечатаны его ручки и ножки с подписью имени, даты и времени рождения. В больнице нам также предложили сделать фотографии с малышом на память. Сначала я отнеслась к этой идее без энтузиазма, но потом подумала: пусть будут. Может быть, когда-нибудь я захочу их увидеть, даже если в тот момент я совсем не понимала зачем - ведь это не фотографии счастливой семьи с новорождённым на руках. Сейчас я безмерно рада, что у меня есть эти снимки, и очень благодарна нашей больнице за то, что у меня есть не только воспоминания. Я даже не могла представить, как часто буду их пересматривать и как постепенно путь от слёз и боли приведёт меня к умилению и любви.
Уже через месяц после прерывания беременности я не только ездила по городу в поисках самой подходящей рамки для особенной открытки с отпечатками, но и почувствовала, что мне важно иметь документ, подтверждающий существование Вани. В «Service Décès» муниципалитета района, где проходило прерывание, я объяснила женщине, что мне нужна справка, подтверждающая, что у меня был ребёнок и что он умер.
Она открыла мой файл и сказала, что в заявке, заполненной больницей, указано, что я отказалась регистрировать малыша. «Такое вполне могло быть», — подумала я. В тот день нам задавали много вопросов и просили принять слишком много решений, для которых у меня просто не было сил. Конечно, многое я уже забыла. Среди этих решений было и то — не регистрировать малыша в муниципалитете. Тогда я подумала: зачем? Это ничего не меняет. Но позже оказалось, что юридическое признание было очень важным шагом для моего эмоционального принятия.
– А можно как-нибудь задним числом изменить это решение и всё-таки зарегистрировать сына? — спросила я.
– У нас такие ситуации редкость, я не уверена… Я сейчас свяжусь с муниципалитетом другого района, там подобные случаи бывают чаще, — ответила она.
Пока женщина и её коллега, переговариваясь между собой, смотрели в монитор компьютера, пытаясь разобраться в ситуации, она назвала Ваню «fœtus». Честно говоря, я даже не придала этому значения, но она резко подняла на меня глаза и, слегка округлив их, сказала:
– Извините… В документации он указан как “fœtus”, но он, конечно же, ваш “bébé. Простите ещё раз.
Через полчаса у меня на руках была справка на имя Ивана, подтверждающая, что мы с Лёшей его родители и что его жизнь длилась 167 дней. Я вышла на улицу. Светило яркое солнце. Стиснув пальцами бумажку А4, я улыбнулась и на миг закрыла глаза, чтобы получше прочувствовать этот момент: “Ваня останется навсегда не только в моей памяти, но и в официальных документах”.
Когда я сама столкнулась с этим, то поняла, что путь у каждого свой. Кому-то становится чуть легче, если он уходит с головой в работу или заботы о семье, чтобы не дать месту боли и тяжёлым мыслям. А кто-то надолго остаётся на этих эмоциональных качелях из слёз и боли — на месяцы, а порой и на годы, пока всё не выплачется. Здесь нет правильного или неправильного варианта. Любой путь, любой выбор оказывается верным, если он подходит именно вам.
Я не знала, каким будет мой путь, но уже приняла решение двигаться вместе с “землетрясением”. Поэтому интуитивно я была открыта всему — и тому, что приходит изнутри, и тому, что приходит извне в этот период. Единственное, что мне хотелось - так это не блокировать мысли, подменяя их другой деятельностью, и давать волю всем эмоциям.
Первые дни были очень тяжёлыми: я чувствовала себя, как оголённый провод. Любая мелочь могла спровоцировать во мне волну горьких слёз. Иногда они приходили без повода — просто как горячий источник, который ищет выход наружу. Когда я плакала, я старалась ощущать своё тело, не пыталась остановиться или подавить слёзы. Мне хотелось позволить себе быть в этом состоянии, принять его, прожить — плакать до тех пор, пока не почувствую облегчение в теле. Удивительным образом, чем больше я давала места этим болезненным ощущениям, тем слабее становилась сама боль.
Внутренние эволюционные механизмы организма сработали чётко. На следующий день после родов у меня начала набухать грудь, и начался период лактации. В больнице мне дали таблетки с антипролактином, чтобы сигнализировать мозгу о прекращении выработки молока, но для полного угасания этого процесса требуется время. Поэтому ещё примерно неделю или чуть больше я была «молокозаводом». Напомню, всё это происходило в середине лета, когда окна у всех были открыты. И стоило в доме напротив заплакать новорождённому малышу, как моя грудь мгновенно реагировала и начинала вырабатывать молоко.
Я не спешила и не подталкивала свой организм быстрее восстановиться. Мой фокус был на том, чтобы дать телу именно то, что ему нужно сегодня. Для этого мне нужно было его слышать, а слышать — значит дышать медленно и глубоко, медитировать. Иногда тело просило сострадания, иногда — исцеляющего массажа. Однажды я почувствовала острое чувство благодарности ему за всё, через что оно прошло.
Дыхание и медитация стали моими первыми спасательными веточками в этой бурлящей реке. В книге Расса Хэрриса «Когда жизнь сбивает с ног» я узнала про технику «бросить якорь». Автор описывает, как вместо борьбы с болезненными мыслями и ощущениями можно дать им место в себе, признать их и назвать. И тогда они постепенно теряют власть над тобой. Ты обучаешь своё тело иначе реагировать на горе — без боли и без борьбы. Этот способ очень откликнулся мне. Я уже пять лет учусь медитировать, признавать мысли и ощущения, но не погружаться в них, и каждый раз, когда мне кажется: «Ну вот, я поняла, о чём это», — я осознаю, что мне еще многое предстоит узнать.
Пока алгоритмы социальных сетей продолжали бомбардировать меня видео и постами о счастливых беременностях, я пыталась найти информацию о перинатальных потерях. Таких историй немного в открытом пространстве, хотя случаев немало. Если уж девушки редко говорят о выкидышах на ранних сроках, то о таком еще тяжелее рассказывать. Мне очень помогли сайт perinatalist.ru и подкаст «Репродуктивный квест». Я чувствовала, как эта информация расширяет мой взгляд на перинатальные потери и спектр проблем, с которыми сталкиваются женщины. Я не искала более трагичные случаи, чтобы преуменьшить своё горе. Наоборот — я расширяла свое видение на такие трагедии и давала им всем место в своем сознании. Одной из самых запомнившихся стала история Анны Старобинец, описанная ею в книге «Посмотри на него».
По рекомендации подруги я послушала большое количество эпизодов подкаста “В конце концов”. В нем доулы смерти помогают изменить отношение общества к смерти. Об этом почти никто не говорит, но, забеременев, многие женщины сталкиваются с преследующим их страхом смерти. Сначала боишься, что с малышом что-то случится в первом триместре, когда риск выкидыша самый высокий. Потом, во втором триместре, переживаешь, если долго не чувствуешь шевелений. Затем думаешь как пройдут роды для малыша. В первый год жизни вздрагиваешь, когда срабатывает монитор сна. Потом ребенок идет в ясли, школу, первый раз задерживается допоздна и не отвечает на телефон. Страх смерти всегда рядом. И если не хочешь сойти с ума, нужно принять и эту сторону жизни.
Примерно через неделю после прерывания, в один из тех дней, когда я заливалась слезами, я почувствовала сильное желание увидеть Ваню ещё раз до того, как его кремируют. Не только увидеть — написать ему письмо и положить его в гробик. Мне хотелось сказать ещё раз, что он навсегда будет частью нашей команды и моим первым сыном. Нас заранее предупредили, что его внешний вид изменился по сравнению с тем, что мы видели после родов. Лёша сразу сказал, что хорошо его запомнил и уже попрощался, поэтому делает это только ради меня.
Мы приехали в больницу и спустились на нижний этаж, в морг. Я заранее подготовила несколько носовых платочков. Нас пригласили в комнату. Мы вошли в помещение, плотно занавешенное шторами, где посередине стоял маленький деревянный гробик на подставке. Мне было очень страшно заглянуть внутрь. Я собралась с духом, сжала платок в руке и подошла ближе. Ванино тело было холодным, чёрствым и полностью серым, как асфальт. Это был уже не Ваня — это была смерть. На удивление себе я не проронила ни одной слезы. По какой-то причине для меня было важно увидеть его таким, понять, что его больше нет. Это помогло мне принять потерю, и после этого стало немного легче.
Нам кажется, что смерть — это про пожилых людей, бабушек, дедушек, родителей. Но иногда смерть приходит внезапно, и жизнь может быть совсем короткой. Это не отменяет её значимости, того смысла и ценности, которые она приносит в мир. За свою пятимесячную жизнь Ваня многому меня научил. Я поняла, что дети могут уходить неожиданно. Хотя все мы сталкиваемся со смертью, мы почти не говорим о ней. Нет ни одного человека, который мог бы поделиться опытом её прохождения. Но это не значит, что её нет или что о ней не нужно говорить. Смерть — это часть жизни, та часть, которая делает её полной.
Ваня показал мне, как ещё можно любить. Не только ощутить фракцию материнской любви, но и научиться любить саму жизнь — принимать её такой, какая она есть. Смотреть на мир открыто, чувствовать, что действительно важно, а что лишь иллюзия занятости. Он раскрыл для меня новую грань существования, ранее мне не знакомую. Жизнь может быть и такой. Если впустить боль и дать ей место, не позволяя ей вытеснять всё остальное, то трагедия наполнит её новым смыслом. Каждый сам выбирает, как относиться к потере ребёнка. Я выбрала услышать своего малыша, услышать себя — и найти в этой трагедии смысл.
Когда я начала работать с психологом после потери сына, я описала свой запрос так: трагедия ощущается как тяжёлый рюкзак, который я буду нести очень долго, если не всю жизнь. Это часть моей истории — как первый класс, первое путешествие за границу или первая работа. Я могу какое-то время носить этот рюкзак на плечах, но он начнёт давить, и станет тяжело. Я не хочу от него избавиться, но и не хочу, чтобы он причинял боль. Я хочу приделать к рюкзаку колёсики — и спокойно катить его рядом с собой.
Отвечать на вопросы психолога было больно, а порой — невыносимо. В отличие от друзей, которые интересовались тем, что я ела во время родов, она спрашивала, что я чувствовала в момент, когда получила подтверждение из второй больницы. Ее вопросы заставляли меня снова возвращаться туда, где было очень больно. Я приходила в эти воспоминания и заново проживала их. Вспоминала всё до мельчайших деталей: в какой одежде была, где сидел или стоял Леша, какие предметы меня окружали, какая была погода в тот день.
Но только в этот раз я чувствовала себя наблюдателем, словно стояла в стороне и называла все эмоции, которые видела, сострадая самой себе. Когда воспоминание доходило до пика болезненности, я-наблюдатель мысленно крепко обнимала себя. Это было больно, но я чувствовала, что мне это необходимо для восстановления. Знаете, как в кино показывают сцену, где брутальный главный герой получает глубокий ножевой разрез на теле? И вот он берет степлер и, проходя по ране, вставляет скрепки. Выглядит это жутко и болезненно, но необходимо для заживления. Здесь было примерно то же самое, только на эмоциональном уровне. Я пыталась затянуть открытую рану, но лишь прикасаясь к ней могла себе помочь.
****
Я прошла большой путь — от отрицания: «Нет, я не буду смотреть на малыша», до принятия: похода в муниципалитет и запроса официального документа, подтверждающего, что Ваня был и что мы его родители.
Когда мы выписывались из больницы, я спросила, будет ли у меня какой-нибудь документ, подтверждающий, что моя беременность была прервана. Врач ответил, что такого документа не предусмотрено, и что у меня останутся только воспоминания. Я не сразу почувствовала необходимость в каких-то артефактах, которые бы подтверждали, что всё происходящее было реальностью, а не сном.
У нас уже была самодельная открытка 10×15 см, сделанная акушеркой в день рождения Вани. На белой, слегка гофрированной бумаге золотой краской были отпечатаны его ручки и ножки с подписью имени, даты и времени рождения. В больнице нам также предложили сделать фотографии с малышом на память. Сначала я отнеслась к этой идее без энтузиазма, но потом подумала: пусть будут. Может быть, когда-нибудь я захочу их увидеть, даже если в тот момент я совсем не понимала зачем - ведь это не фотографии счастливой семьи с новорождённым на руках. Сейчас я безмерно рада, что у меня есть эти снимки, и очень благодарна нашей больнице за то, что у меня есть не только воспоминания. Я даже не могла представить, как часто буду их пересматривать и как постепенно путь от слёз и боли приведёт меня к умилению и любви.
Уже через месяц после прерывания беременности я не только ездила по городу в поисках самой подходящей рамки для особенной открытки с отпечатками, но и почувствовала, что мне важно иметь документ, подтверждающий существование Вани. В «Service Décès» муниципалитета района, где проходило прерывание, я объяснила женщине, что мне нужна справка, подтверждающая, что у меня был ребёнок и что он умер.
Она открыла мой файл и сказала, что в заявке, заполненной больницей, указано, что я отказалась регистрировать малыша. «Такое вполне могло быть», — подумала я. В тот день нам задавали много вопросов и просили принять слишком много решений, для которых у меня просто не было сил. Конечно, многое я уже забыла. Среди этих решений было и то — не регистрировать малыша в муниципалитете. Тогда я подумала: зачем? Это ничего не меняет. Но позже оказалось, что юридическое признание было очень важным шагом для моего эмоционального принятия.
– А можно как-нибудь задним числом изменить это решение и всё-таки зарегистрировать сына? — спросила я.
– У нас такие ситуации редкость, я не уверена… Я сейчас свяжусь с муниципалитетом другого района, там подобные случаи бывают чаще, — ответила она.
Пока женщина и её коллега, переговариваясь между собой, смотрели в монитор компьютера, пытаясь разобраться в ситуации, она назвала Ваню «fœtus». Честно говоря, я даже не придала этому значения, но она резко подняла на меня глаза и, слегка округлив их, сказала:
– Извините… В документации он указан как “fœtus”, но он, конечно же, ваш “bébé. Простите ещё раз.
Через полчаса у меня на руках была справка на имя Ивана, подтверждающая, что мы с Лёшей его родители и что его жизнь длилась 167 дней. Я вышла на улицу. Светило яркое солнце. Стиснув пальцами бумажку А4, я улыбнулась и на миг закрыла глаза, чтобы получше прочувствовать этот момент: “Ваня останется навсегда не только в моей памяти, но и в официальных документах”.
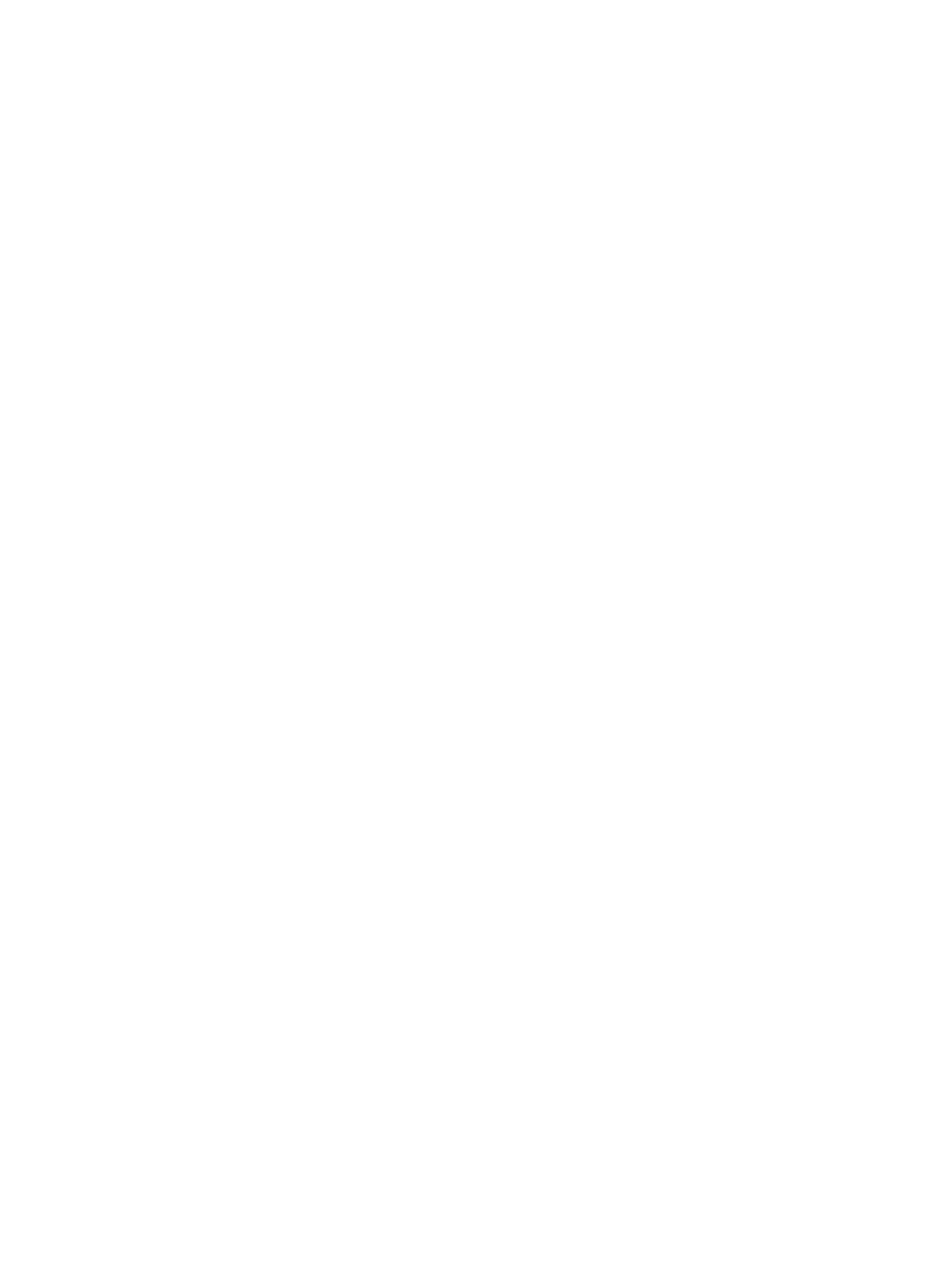
Глава 7
“Делясь горем с другими,
мы уменьшаем его тяжесть в нас самих”
мы уменьшаем его тяжесть в нас самих”
Почему женщины так часто не говорят никому о беременности примерно до третьего месяца, до даты первого скрининга?
Я впервые задумалась об этом, когда узнала о своей беременности. Все, что мне удалось нагуглить так это то, что риск выкидыша в первом триместре довольно высок, и эмоционально очень тяжело сообщать близким о том, что вы больше не беременны.
В тот момент я подумала, что это так обесценивает факт наступившей беременности. Ведь то что яйцеклетка вовремя встретилась со сперматозоидом, оплодотворилась и закрепилась в матке - это уже большое событие. Конечно при копировании что-то может пойти не так, но в вас уже зарождается жизнь! Для себя я решила не обесценивать факт наступившей беременности, поэтому если я встречалась с друзьями еще в первом триместре, я говорила, что беременна, говорила с оговоркой, что мы знаем что ошибки копирования - это довольно частая история и что-то может пойти не так.
Через две недели как мы сдали НИПТ тест, где также был указан пол ребенка мы организовали gender party. В большой и веселой компании друзей мы сначала громко обсуждали какие преимущества есть у мужчин и у женщин в нашем мире, а потом разрезали торт с голубой прослойкой внутри. Это был замечательный праздник и у меня нет никаких сожалений, что мы его организовали.
Теперь, когда на пятом месяце беременность была прервана, нужно было всем сообщить, что появления малыша в октябре не ожидается. Я оказалась в той ситуации, которая согласна гугл источникам была причиной, почему женщины не говорят что они беременны до трех месяцев - эмоционально тяжело сообщать друзьям и близким, что ты уже не беременна.
Мы сообщили друзьям и родственникам о случившемся через неделю после прерывания. Отклик и поддержка друзей вызывала во мне и большую благодарность и грусть, которая выходила со слезами. Я установила себе дневную квоту сколько сообщений я прочитаю и на сколько отвечу. Иначе было очень больно. Также я чувствовала, что хочу сообщить о случившемся более широкому кругу знакомых - написать пост в инстаграме. Писать посты было легко, они лились потоком изнутри. Мне хотелось рассказать нашу историю. Я сразу знала, что я не буду ничего скрывать и делать вид, что ничего не произошло, я хочу рассказать, что со мной случилось, я хочу, чтобы больше людей знали про такие ситуации. Ведь это может помочь другим парам, оказавшимся в похожей ситуации или просто поднимет осведомленность о том, что такое может случится по независящим от нас обстоятельствам абсолютно с кем угодно. Это не карма, прошлый грех, плохое поведение, дурные мысли, расплата - это простая случайность, и тут не нужно искать причину.
Наша история получила невероятно большой отклик от людей. Одни выражали глубокие слова сочувствия, другие слали “лучики поддержки”, были и личные истории: истории знакомых, близких родственников и друзей о перинатальных потерях. Я чувствовала, что рассказав свою историю, я помогла найти место для историй других малышей, о которых я даже не знала. Услышать это было очень важно. В этот момент пришло осознание, что такие истории случаются не только в подкастах или книжках с кем-то там далеко, они случаются с теми, кого я знаю через одно рукопожатие, а иногда даже личное рукопожатие. И время этих историй настало сейчас.
В целом, поделиться этой историей для меня оказалось терапевтичным. Каждое слово, каждая реакция окружающих словно забирали частичку моего горя. Чем больше я говорила и чем больше чувствовала поддержку, тем легче становилось. Я заметила, что делиться болью и принимать помощь — это непросто, особенно когда рана ещё свежая, будто касаешься её снова и снова. Но я также поняла, что всё зависело от моего состояния в момент трагедии и от того, какая поддержка была рядом в самые тяжёлые дни. У всех этот путь разный. Кто-то, возможно, чувствует вину за принятые решения или винит себя за случившееся. Кто-то ещё долго живёт с отголосками травмы. Я могу говорить только о себе — о том, как это было у меня и что помогало мне пережить этот период.
И пока одна поддержка действительно мне откликалась, другая была триггером болезненных ощущений и иногда даже вызывала оцепенение. В самом начале было почти невозможно объяснять, что мне помогает, а от каких слов поддержки я бы совсем хотела себя оградить. Через какое-то время я подумала, что это моя ответственность помочь моему окружению понять как меня поддержать, но для этого нужен был ресурс и понимание, что работает именно для меня.
Интересно, что в период горя близкие люди оказались самыми далекими, а люди, с которыми мы меньше общались, стали надежной опорой. Никого из нас не учили как поддерживать человека в горе, поэтому все действуют по наитию, кто слышал истории, кто в книжке читал, кто в кино видел, а кто-то сам через горе прошел.
Были люди, которые рекомендовали задавить червяка, чтобы он не съел меня изнутри, и перестать уже думать об этом. При личной встречи многие пытались выстроить разговор так, чтобы тема про потерю малыша ни в коем случае не всплыла, спрашивали про погоду, работу, дом, путешествия и кино, поднимались любые темы, чтобы отвлечь внимание. Были и те, кто спрашивал, просил рассказать что случилось и как я себя чувствовала в тот момент.
“Все будет хорошо. Будут у вас еще дети” - вариация таких слов поддержки была очень частой. Почему мне она не откликалась? Во-первых, мы с Лёшей знаем, что все будет хорошо, а во-вторых, такие слова никак не облегчают нашего горького положения здесь и сейчас. Самые лучшие слова поддержки признавали наше горе, сочувствовали нашему положению, и не пытались вытеснить его солнечным будущим.
«Напиши, если нужна помощь» — вначале даже на такую фразу было сложно реагировать. Я ценила эти слова, но не понимала, как именно мне могут помочь. Некоторые друзья предлагали конкретные вещи, помогая мне увидеть, что поддержка может быть разной: «Вот контакт психолога», «Я нашёл брошюру о перинатальных потерях, может, она тебе пригодится», «Давай я заберу собаку на пару дней, чтобы вы могли побыть вдвоём», «Я приготовила вам ужин, скоро привезу», «Мы отправили вам ваучер на еду навынос, чтобы не думать о готовке и походах в магазин», «Подумала, вдруг захочешь почитать, — на почте тебя ждёт ваучер в книжный». Каждое действие, каждое сообщение становились моей опорой. Слова поддержки и реальные поступки значили для меня невероятно много в тот период.
Ещё раз подчеркну, что разные люди нуждаются в разной поддержке в своём горе. Мне нужно было говорить об этом. Отвлечённые разговоры были для меня обременительны. Любая тема, которую друзья старались поднять, чтобы отвлечь моё внимание, казалась мне настолько неважной и банальной, у меня не хватало сил думать о чём-то ещё. Всё, о чём мне хотелось говорить, — это о Ване. Я была готова рассказывать о нём и подробно отвечать на любые вопросы о нашей трагедии, но такие вопросы звучали крайне редко. Сама начинать разговор я тоже не всегда решалась: мне казалось, что людям неприятно это слышать. Многие избегали этой темы — кто-то, вероятно, из страха причинить мне боль, кто-то, может быть, потому что не хотел вникать в такие истории, а кто-то — по совсем другим причинам. И я их понимаю: я сама бы не знала, как реагировать в таких ситуациях, как поддержать родителей, только что потерявших своего малыша.
Говорить о перинатальных потерях — трудно, но необходимо. Именно разговор помогает обществу стать более зрелым и чутким в этом вопросе, лучше понять, что переживают мамы, потерявшие своих малышей, как поддержать их, как говорить с парами, столкнувшимися с такой бедой. И пока в одном уголке мира женщины рожают 24 недельных малышей в памперс и выкидывают в черный пакет, в другом для таких малышей делают крошечные гробики, устраивают церемонию прощания, с музыкой, написанием прощального письма и развеиванием праха. Видно, что общество прошло немаленький путь в понимании женщин, переживших перинатальные потери, если даже работница муниципалитета извиняется, за то, что назвала моего 24 недельного сына “плодом”, потому что он, конечно же, мой “малыш”, вне зависимости от того, как предписывает называть его законодательство.
Но главное — рассказывая свою историю, мы в первую очередь помогаем себе. Делясь горем с другими, мы уменьшаем его тяжесть в нас самих.
Автор Юлия Чернова
t.me/chernovik_eu
Я впервые задумалась об этом, когда узнала о своей беременности. Все, что мне удалось нагуглить так это то, что риск выкидыша в первом триместре довольно высок, и эмоционально очень тяжело сообщать близким о том, что вы больше не беременны.
В тот момент я подумала, что это так обесценивает факт наступившей беременности. Ведь то что яйцеклетка вовремя встретилась со сперматозоидом, оплодотворилась и закрепилась в матке - это уже большое событие. Конечно при копировании что-то может пойти не так, но в вас уже зарождается жизнь! Для себя я решила не обесценивать факт наступившей беременности, поэтому если я встречалась с друзьями еще в первом триместре, я говорила, что беременна, говорила с оговоркой, что мы знаем что ошибки копирования - это довольно частая история и что-то может пойти не так.
Через две недели как мы сдали НИПТ тест, где также был указан пол ребенка мы организовали gender party. В большой и веселой компании друзей мы сначала громко обсуждали какие преимущества есть у мужчин и у женщин в нашем мире, а потом разрезали торт с голубой прослойкой внутри. Это был замечательный праздник и у меня нет никаких сожалений, что мы его организовали.
Теперь, когда на пятом месяце беременность была прервана, нужно было всем сообщить, что появления малыша в октябре не ожидается. Я оказалась в той ситуации, которая согласна гугл источникам была причиной, почему женщины не говорят что они беременны до трех месяцев - эмоционально тяжело сообщать друзьям и близким, что ты уже не беременна.
Мы сообщили друзьям и родственникам о случившемся через неделю после прерывания. Отклик и поддержка друзей вызывала во мне и большую благодарность и грусть, которая выходила со слезами. Я установила себе дневную квоту сколько сообщений я прочитаю и на сколько отвечу. Иначе было очень больно. Также я чувствовала, что хочу сообщить о случившемся более широкому кругу знакомых - написать пост в инстаграме. Писать посты было легко, они лились потоком изнутри. Мне хотелось рассказать нашу историю. Я сразу знала, что я не буду ничего скрывать и делать вид, что ничего не произошло, я хочу рассказать, что со мной случилось, я хочу, чтобы больше людей знали про такие ситуации. Ведь это может помочь другим парам, оказавшимся в похожей ситуации или просто поднимет осведомленность о том, что такое может случится по независящим от нас обстоятельствам абсолютно с кем угодно. Это не карма, прошлый грех, плохое поведение, дурные мысли, расплата - это простая случайность, и тут не нужно искать причину.
Наша история получила невероятно большой отклик от людей. Одни выражали глубокие слова сочувствия, другие слали “лучики поддержки”, были и личные истории: истории знакомых, близких родственников и друзей о перинатальных потерях. Я чувствовала, что рассказав свою историю, я помогла найти место для историй других малышей, о которых я даже не знала. Услышать это было очень важно. В этот момент пришло осознание, что такие истории случаются не только в подкастах или книжках с кем-то там далеко, они случаются с теми, кого я знаю через одно рукопожатие, а иногда даже личное рукопожатие. И время этих историй настало сейчас.
В целом, поделиться этой историей для меня оказалось терапевтичным. Каждое слово, каждая реакция окружающих словно забирали частичку моего горя. Чем больше я говорила и чем больше чувствовала поддержку, тем легче становилось. Я заметила, что делиться болью и принимать помощь — это непросто, особенно когда рана ещё свежая, будто касаешься её снова и снова. Но я также поняла, что всё зависело от моего состояния в момент трагедии и от того, какая поддержка была рядом в самые тяжёлые дни. У всех этот путь разный. Кто-то, возможно, чувствует вину за принятые решения или винит себя за случившееся. Кто-то ещё долго живёт с отголосками травмы. Я могу говорить только о себе — о том, как это было у меня и что помогало мне пережить этот период.
И пока одна поддержка действительно мне откликалась, другая была триггером болезненных ощущений и иногда даже вызывала оцепенение. В самом начале было почти невозможно объяснять, что мне помогает, а от каких слов поддержки я бы совсем хотела себя оградить. Через какое-то время я подумала, что это моя ответственность помочь моему окружению понять как меня поддержать, но для этого нужен был ресурс и понимание, что работает именно для меня.
Интересно, что в период горя близкие люди оказались самыми далекими, а люди, с которыми мы меньше общались, стали надежной опорой. Никого из нас не учили как поддерживать человека в горе, поэтому все действуют по наитию, кто слышал истории, кто в книжке читал, кто в кино видел, а кто-то сам через горе прошел.
Были люди, которые рекомендовали задавить червяка, чтобы он не съел меня изнутри, и перестать уже думать об этом. При личной встречи многие пытались выстроить разговор так, чтобы тема про потерю малыша ни в коем случае не всплыла, спрашивали про погоду, работу, дом, путешествия и кино, поднимались любые темы, чтобы отвлечь внимание. Были и те, кто спрашивал, просил рассказать что случилось и как я себя чувствовала в тот момент.
“Все будет хорошо. Будут у вас еще дети” - вариация таких слов поддержки была очень частой. Почему мне она не откликалась? Во-первых, мы с Лёшей знаем, что все будет хорошо, а во-вторых, такие слова никак не облегчают нашего горького положения здесь и сейчас. Самые лучшие слова поддержки признавали наше горе, сочувствовали нашему положению, и не пытались вытеснить его солнечным будущим.
«Напиши, если нужна помощь» — вначале даже на такую фразу было сложно реагировать. Я ценила эти слова, но не понимала, как именно мне могут помочь. Некоторые друзья предлагали конкретные вещи, помогая мне увидеть, что поддержка может быть разной: «Вот контакт психолога», «Я нашёл брошюру о перинатальных потерях, может, она тебе пригодится», «Давай я заберу собаку на пару дней, чтобы вы могли побыть вдвоём», «Я приготовила вам ужин, скоро привезу», «Мы отправили вам ваучер на еду навынос, чтобы не думать о готовке и походах в магазин», «Подумала, вдруг захочешь почитать, — на почте тебя ждёт ваучер в книжный». Каждое действие, каждое сообщение становились моей опорой. Слова поддержки и реальные поступки значили для меня невероятно много в тот период.
Ещё раз подчеркну, что разные люди нуждаются в разной поддержке в своём горе. Мне нужно было говорить об этом. Отвлечённые разговоры были для меня обременительны. Любая тема, которую друзья старались поднять, чтобы отвлечь моё внимание, казалась мне настолько неважной и банальной, у меня не хватало сил думать о чём-то ещё. Всё, о чём мне хотелось говорить, — это о Ване. Я была готова рассказывать о нём и подробно отвечать на любые вопросы о нашей трагедии, но такие вопросы звучали крайне редко. Сама начинать разговор я тоже не всегда решалась: мне казалось, что людям неприятно это слышать. Многие избегали этой темы — кто-то, вероятно, из страха причинить мне боль, кто-то, может быть, потому что не хотел вникать в такие истории, а кто-то — по совсем другим причинам. И я их понимаю: я сама бы не знала, как реагировать в таких ситуациях, как поддержать родителей, только что потерявших своего малыша.
Говорить о перинатальных потерях — трудно, но необходимо. Именно разговор помогает обществу стать более зрелым и чутким в этом вопросе, лучше понять, что переживают мамы, потерявшие своих малышей, как поддержать их, как говорить с парами, столкнувшимися с такой бедой. И пока в одном уголке мира женщины рожают 24 недельных малышей в памперс и выкидывают в черный пакет, в другом для таких малышей делают крошечные гробики, устраивают церемонию прощания, с музыкой, написанием прощального письма и развеиванием праха. Видно, что общество прошло немаленький путь в понимании женщин, переживших перинатальные потери, если даже работница муниципалитета извиняется, за то, что назвала моего 24 недельного сына “плодом”, потому что он, конечно же, мой “малыш”, вне зависимости от того, как предписывает называть его законодательство.
Но главное — рассказывая свою историю, мы в первую очередь помогаем себе. Делясь горем с другими, мы уменьшаем его тяжесть в нас самих.
Автор Юлия Чернова
t.me/chernovik_eu
5
+Записаться на+
+консультацию+
Получите психологическую помощь и поддержку в ситуации репродуктивных трудностей.